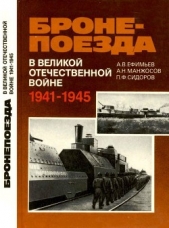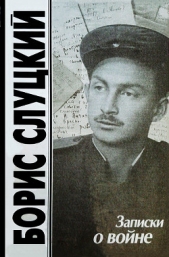Записки беспогонника

Записки беспогонника читать книгу онлайн
Писатель, князь Сергей Голицын (1909–1989) хорошо известен замечательными произведениями для детей, а его книга «Сказание о Русской земле» многократно переиздавалась и входит в школьную программу. Предлагаемые читателю «Записки беспогонника», последнее творение Сергея Михайловича, — книга о Великой Отечественной войне. Автор, военный топограф, прошел огненными тропами от Коврова до поверженного рейхстага. Написана искренне, великолепным русским языком, с любовью к друзьям и сослуживцам. Широкий кругозор, наблюдательность, талант рассказчика обеспечат мемуарам, на наш взгляд, самое достойное место в отечественной литературе «о доблестях, о подвигах, о славе».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А, Сережа! — узнал он меня.
Впервые за все это время так обращались ко мне. И от этого ласкового «Сережа» пахнуло на меня златыми днями моего юношества, школы…
Федор Александрович, отправив куда-то семью, жил один. Комната была не прибрана, валялись носки, картофельные очистки, окурки. Он меня угостил горячим чаем с сахаром и кормовой свеклой. Я его угостил белым хлебом.
Мы просидели с ним несколько часов, вспоминая прошлое. О настоящем не хотелось говорить. А настоящее ошеломило меня. Федор Александрович рассказал, что мой и его зять — муж моей сестры Сони — Виктор Александрович Мейен был арестован.
— За что? Ведь он старший научный сотрудник Института рыбоводства. У него сравнительно приличное социальное происхождение.
— У него немецкая фамилия, и он остался в Москве, когда его институт эвакуировался, — ответил Федор Александрович.
Фамилия у него была не немецкая, а голландская, не Мейн, а Мейен. А мог ли человек бросить на произвол судьбы жену и трех малолетних детей, находившихся в 60 километрах? И он остался. А через несколько лет погиб, как погибли миллионы заключенных, от голода, от непосильной работы.
Проговорив до полуночи, Федор Александрович и я легли спать. Аутром я ушел. Потом я узнал, что месяц спустя он погиб на улице во время бомбежки.
Пешком с Большого Левшинского я вновь побрел на Первую Мещанскую. Заходить было некуда, ехать к своим в Дмитров я не решился, да, кажется, и поезда туда не ходили.
Весь день 17 октября, не высовывая носа на улицу, мы резались в бомбоубежище в дураки. Там висел репродуктор, и я смог услышать речь Щербакова, тогдашнего первого секретаря Московского комитета партии.
Он говорил, что в связи с приближением врага к дальним подступам Москвы, немецкие бомбардировщики смогут летать в сопровождении истребителей, и потому бомбежки Москвы окажутся более эффективными, и, следовательно, некоторые московские заводы должны быть эвакуированы. Мне эта речь очень не понравилась, да и голос Щербакова был растерянный. Впоследствии я узнал, что он один из первых удрал из Москвы и говорил из какого-то другого города, чуть ли не из Рыбинска, видимо, по этому случаю переименованного в город Щербаков.
Во второй половине дня к нам в бомбоубежище вошел Лущихин в крайнем волнении. Я знал, что он ночевал у Козловской и все к ней приставал с просьбой — дать ему машину — привезти какое-то буровое оборудование из Углича, а точнее, побывать у эвакуированной семьи в городе Мышкине.
Козловская ему не отказывала, но и не обещала, выжидая ход дальнейших событий, и пока назначила его нашим временным руководителем.
Он никуда нас не пустил, так как рано утром 18-го мы должны были выехать из Москвы под Владимир в село Улыбышево, где на месте законсервированной стройки ГЭС был назначен сбор всех геологических партий.
Обе наши машины стояли нагруженными во дворе, и мы поочередно дежурили возле них. Я должен был дежурить с 10 вечера до 2 ночи.
Немного подремав, я вышел на улицу, поеживаясь от холода. Ночь была звездная. Серебряные мечи прожекторов тревожно шарили по темному небосклону. И вдруг послышалось гудение. Серебряные мечи запрыгали, заметались. Огненные цветные траектории трассирующих пуль зениток протянулись по всем направлениям. И вдруг мечи скрестились в одной точке, и в этой точке засверкал дьявольски красивый ослепительный голубой мотылек. Зрелище было красоты поразительной.
Чтобы лучше видеть, я выскочил на улицу. Там стояла сумрачная очередь за хлебом. Огненные траектории со всех сторон устремились на голубой мотылек. А он, пронзенный несколькими мечами прожекторов, медленно и, казалось бы, невозмутимо плыл в сторону Останкина. И вдруг он вспыхнул ярким пламенем, закачался, кувыркнулся вниз. И тотчас же мечи отскочили в стороны, заметались по всему небу в поисках другого хищного мотылька, а траектории трассирующих пуль угасли. И тут из хмурой, не выспавшейся очереди раздались аплодисменты…
Меня сменили. Я пошел спать на топчаны, расставленные в бомбоубежище.
В 7 утра мы двинулись в путь, поехали по Садовому кольцу мимо Красных Ворот и Курского вокзала. И чем дальше мы подвигались, тем больше обгоняли машин и пешеходов. На Таганской площади свернули налево, и тут пришлось остановиться: путь преградило многоголовое стадо свиней. Уж не потомки ли они свиней евангельских?
Но бесы, кажется, вселились не в животных, а в людей, объятых страхом.
У Рогожской заставы столько набилось машин и пешеходов, что мы еле ползли. КПП у Измайловского парка пропускало всех, просто некогда было проверять документы.
Со скоростью пешеходов выехали мы на Горьковское шоссе. Я сидел сзади и глядел во все глаза. Если бы шоссе оказалось шире, машины двигались бы не в 4, а в 6, в 8 рядов, и все равно было бы тесно.
Ехали машины грузовые всех советских марок, набитые не столько казенным имуществом, сколько личным барахлом, набитые до отказу людьми. Ехали машины легковые, также набитые барахлом и людьми. Я видел машины для перевозки хлеба, желтый пивной автофургон, красный пожарный автомобиль, машину для поливки улиц, автобус № 2 Москва — Кунцево. И все они двигались в одну сторону, и все были переполнены людьми и вещами.
А по обочинам и в полосе отчуждения брели пешеходы с чемоданами и узлами, вели и несли детей всех возрастов. Пешеходы были самого необычного вида — важные дяди в фетровых шляпах, толстые тети в манто. Мальчишки из ремесленного училища с узелками за спиной, с батонами под мышкой шагали, весело болтая. Почтенное еврейское семейство — толстопузый папа, толстозадая мама, два мальчика и две девочки — медленно шествовало, как на прогулке. Худая дама в каракулевой шубке волокла огромный чемодан, хромая на обе ноги в туфельках на высоких каблуках. Стая немецких овчарок, очевидно виденная мною два дня назад, помахивая хвостами, пугая пешеходов, продефилировала со своими поводырями. Трактор, взламывая шипами колес асфальтовое шоссе, с громом и лязгом проволок штук семь гнусного вида тележек с металлическим ломом, а на этом ломе восседало десятка три людей; запомнилась фигура толстого Соломона в круглых очках, судорожно уцепившегося за какие-то железяки, а с ним столь же толстая Сара и две девочки в длинных штанишках и с красными помпонами на капорах. На обочине стоял голубой легковой ЗИС-101 с проломанным носом, наполненный коврами, а рядом дамочка в котиковом манто топала ножкой и кричала на двух растерянных главнюков в кожаных пальто, а из окна голубого ЗИСа из-за ковровых рулонов торчала улыбающаяся морда борзой собаки.
И почти не попадалось военных машин. И ни одна машина, ни один пешеход не двигались навстречу потоку беглецов.
А высоко в небе чертил белую полосу немецкий самолет-разведчик.
И я, и 95 % людей всего мира были тогда убеждены, что еще два дня, ну еще несколько дней, и Москва будет сдана немцам.
У меня были моменты, что я хотел выскочить из машины и вернуться в Москву, откуда сейчас, подобно зловонному гною из нарыва, низвергается все мерзкое, трусливое и подлое. Не может быть, чтобы не остались там те, которые хотят сражаться в партизанах. Но ведь у меня дети, семья, скоро я увижу своих любимых…
И еще была у меня самая веская причина — почему я не мог идти записываться в добровольцы: вот приду я, — думалось мне, — а дядя, вроде нашего негодяя Моисеева, мне анкету протянет, заполню я все параграфы, а дядя прочтет, да вперит в меня свои испытующие рыбьи глаза, да скажет:
— Знаем мы, зачем вы хотите идти в добровольцы.
Только бы меня и видели.
К 10 вечера в полной темноте мы приехали во Владимир. Я вызвался найти зятя жены — Мулю, точнее, Самуила Александровича (Айзиковича) Лейзераха — военинженера III ранга, начальника дистанции на Горьковском шоссе. Я надеялся с его помощью устроить нам всем ночлег.
В штабе Дорожного управления я спросил о Муле.
Сидевший за столом воентехник вдруг зло усмехнулся.
— Удрал, удрал ваш Лейзерах.
Как только война началась, Муля был назначен начальником дистанции на автостраде Москва — Минск, потом перекочевал на восток на шоссе Москва — Горький, а в эти грозные дни его перебросили еще дальше — под Казань. А когда война кончилась, в числе победителей он очутился в Берлине, откуда привез изрядное количество трофеев и даже легковую машину, а на трофеи сумел выстроить под Москвой дачу.