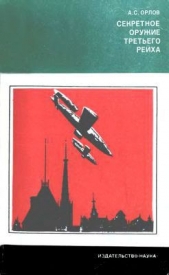Главный финансист Третьего рейха. Признания старого лиса. 1923-1948
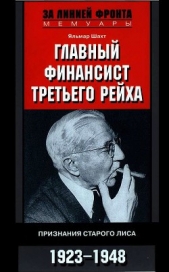
Главный финансист Третьего рейха. Признания старого лиса. 1923-1948 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Во время моего второго семестра мне пришла в голову мысль, что надо быть идиотом, чтобы писать в газету, не владея практическими знаниями о том, как она создается. Я обсудил эту мысль с отцом, который проявил к ней большой интерес. В конце концов, он назвал меня по имени одного из самых знаменитых газетчиков Соединенных Штатов. Да и сам был журналистом.
— Что ты имеешь в виду, когда говоришь о практической работе в газете? — спросил отец.
— Хотелось бы поработать хотя бы несколько месяцев в редакции газеты, — ответил я.
Отец задумался.
— Я поговорю с доктором Лейпцигером, — сказал он. — Лейпцигер возглавляет газету Kleines Journal — понятно, что это не ведущее издание! Все-таки мы вели с ним совместное дело. Посмотрю, что можно сделать, если ты действительно хочешь работать в газете.
Это происходило в январе 1896 года, когда мне было только девятнадцать лет. По пути на работу на следующий день отец зашел к герру Лейпцигеру и сообщил ему о моем желании. Герр Лейпцигер, весьма уважавший отца, сказал, что я могу выходить на работу в редакцию 1 февраля в качестве «неоплачиваемого помощника».
— Скажи ему — в качестве неоплачиваемого помощника, — напомнил Лейпцигер. — Мы на студентов особого внимания не обращаем…
Глава 7
Неоплачиваемый помощник Kleines Journal
— Вы раньше что-нибудь писали? — поинтересовался глава отдела новостей герр Фюрстенхайм, когда я появился в редакции утром 1 февраля. Он говорил громким, саркастичным и несколько снисходительным голосом.
Меня словно обожгли крапивой. Писал ли я раньше что-нибудь — конечно, писал! Целые тома!
— Что именно? — коротко спросил Фюрстенхайм.
— Поэмы, — ответил я.
У меня были даже опубликованные поэмы — если быть точным, то одна. И чтобы напечатать эти вирши в Weiner Dichterheim, мне пришлось заплатить пять марок. Weiner Dichterheim существовал за счет поэтов, которые платили за публикацию своих стихов.
— Ах! Поэзия! — воскликнул Фюрстенхайм. Он пошарил в немаленькой кипе бумаг на столе, вытащил чистый листок бумаги и сказал: — Ступайте на строительство Видендаммского моста. Оно наполовину закончено. Напишите корреспонденцию в двенадцать строк — понимаете? Не больше.
Ничего не может быть проще, подумал я, взял листок и отправился к мосту.
Я мог написать тысячу строк об этом великолепном мосте. Мог описать чаек, любующихся собственным отражением на мутной поверхности Шпрее, румяных детишек, стоящих на берегу и глазеющих на строителей моста, самих строителей с их инструментами. Но ведь герр Фюрстенхайм не просил ни двух тысяч, ни даже двух сотен строк — нет, ему нужны были всего двенадцать строк.
Поспешил в редакцию и стал думать, как написать эти двенадцать строк. Вычеркивал одно предложение здесь, другое — там. Вдруг в кабинет ворвался редактор и громко спросил:
— Герр Шахт, где ваши двенадцать строк? Неужели вы полагаете, что берлинцы будут дожидаться газеты до завтрашнего утра только потому, что вы здесь сидите и пишете стихи?
Он заметил исписанные листы бумаги и выдернул их из-под моей руки.
— Погодите, стойте! — воскликнул я. — Моя корреспонденция еще не закончена.
— Нет времени! — бросил он через плечо и поспешил выйти из кабинета, помахивая моими страницами, словно захваченными у противника знаменами. — Верстка не может ждать.
Я последовал за ним и оглядел наборный цех. Там повсюду стояли люди с отрезками странно выглядевшего рифленого железа, в которые они бросали проворными пальцами буквы. Буквы они брали из небольших коробок, стоящих на столе. Наборщики, кажется, даже не обращали внимания на то, что делают. Их пальцы бегали между коробками и наборной рамой — один-два пробела между буквами, и они уже вытягивали ряды шрифта из рамы и помещали их на большую металлическую наборную доску, где были уже уложены другие ряды. Из соседнего помещения доносился приглушенный грохот линотипных машин.
Завороженный этим зрелищем, я совсем забыл про свою корреспонденцию. У меня из рук вырвали полуготовый экземпляр. Где он? Я огляделся и увидел человека, который бежал с моими листками. В тот же момент он увидел меня, подмигнул, слегка кивнул и принялся снова за ручную верстку. Затем этот человек взял со стола одну из наборных досок, закрепленную угольниками, и перенес ее на низкую подставку. Здесь на нее нанесли валиком типографскую краску, сверху положили лист бумаги и с нажимом провели поверх него щеткой. Когда сотрудник типографии отрывал этот лист от доски, раздавался странный шипящий звук.
— Гм! — произнес Фюрстенхайм и соскреб что-то зеленое с полей страницы, оставленное щеткой. — Совсем неплохо для начинающего — очень милая заметка.
Я заглянул через его плечо и увидел свою заметку о Видендаммском мосте. Лицо мое вспыхнуло. В ней не было ни одного моего слова. Редактор написал ее сам, бегло прочитав мои записи. И пришлось признать, что написал очень хорошо.
— Расквитаешься кружкой пива, — шепнул мне верстальщик. — Потом, когда уйдет начальник!
Я кивнул в знак согласия и быстро огляделся. Показалось, что все наборщики и верстальщики тихо посмеиваются. Один лишь герр Фюрстенхайм не обращал никакого внимания на то, что происходило.
Во время работы неоплачиваемым помощником в Берлине я многому удивлялся, когда узнавал, как делается газета. Это была поучительная практика, весьма отличная от той, какую я себе воображал. Все, что относилось к изданию Kleines Journal, выглядело для меня сначала происходящим стихийно: каким-то образом это собиралось и комбинировалось в соответствии со схемами, которые казались мне совершенно бессмысленными. Понадобилось немало времени для осознания того, что газета рождается не стихийно, но, наоборот, в соответствии с ясным представлением редакторов того, что они хотят.
Газету возглавлял Лейпцигер, крепкий старик Лейпцигер, который по праздничным дням красовался с орденом Красного орла 4-й степени в петлице. Полагают, что газета, которой он руководил, придерживалась радикального направления. Но нет — Лейпцигер был монархистом и не позволил бы клевету на своего обожаемого Гогенцоллерна. Он не допускал критики дворцовой жизни. На страницах его газеты никогда не появлялось сплетен, враждебных двору. Орден Красного орла на ленте, возможно, был получен именно за это, потому что герр Лейпцигер гордился им так же, как французский министр гордился бы орденом Почетного легиона. Монархи, в конце концов, были неглупыми людьми!
Поскольку двор был выше сплетен, не было никаких ограничений для выражения Лейпцигером своего восторга. Содержание газеты представляло собой смесь общественных скандалов и американской «желтой прессы» — вещь того сорта, которую в наше время презрительно называют халтурой. Тираж был небольшим: газета печаталась в типографии Бюхсенштейна и редактировалась на Фридрихштрассе в доме, расположенном рядом с театром «Аполлон», где мы собирались каждый день со свежими силами.
По поручению Фюрстенхайма я каждый день выходил на улицы Берлина и за пределы города и возвращался с небольшими заметками. Я ходил в общества защиты животных, пивные бары, на ежегодные собрания арендаторов и гильдий парикмахеров, представления варьете и цирка. Не всегда легко следовать журналистской музе, когда привык к несколько высокому, серьезному стилю университета. Иногда мне удавалось взять верный тон. Тогда Фюрстенхайм был доволен и хвалил меня. Чаще, однако, я готовил заметки, которые выходили за рамки стандартов газеты.
— Слишком напыщенно, — говорил Фюрстенхайм на своем берлинском диалекте. — Вам нужно учиться писать простым языком, герр Шахт.
Или:
— Кого, по-вашему, заинтересует этот вздор, герр Шахт? Неужели на танцах не случилось чего-нибудь еще?
— Председатель произнес речь, — сказал я снисходительно.
— Ну, и она была неинтересна?
— Фактически, герр Фюрстенхайм, не думаю, чтобы она могла заинтересовать кого-нибудь.
Он скосил на меня глаза, мигая, как сова при дневном свете. В его голосе появились саркастические нотки.