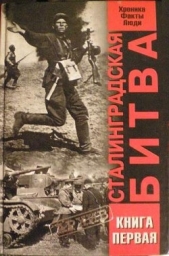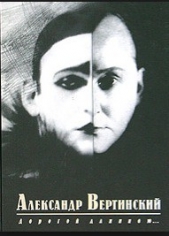Артист Александр Вертинский. Материалы к биографии. Размышления

Артист Александр Вертинский. Материалы к биографии. Размышления читать книгу онлайн
Имя А. Н. Вертинского (1889–1957) пользуется в нашей стране заслуженной любовью и популярностью. Но сведения об артисте читатель может найти только в небольших статьях, заметках, воспоминаниях. В настоящей книге сделана попытка последовательно рассказать о жизни и творчестве А. Н. Вертинского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 1930-м году в концерт-обозрение «Букет моей бабушки», подготовленный московским мюзик-холлом, был включен номер модного певца Казимира Малахова, комически изображавшего Вертинского на эстраде. Критика, правда, отмечала двойственное впечатление от выступлений Малахова. Публика не воспринимала его номер как пародию и аплодировала не высмеиванию Вертинского, а напоминанию о его голосе, жестах, о его чудесных мелодиях.
А в печати по-прежнему появлялись только уничтожающие отклики об артисте. Вера Инбер писала в 1932 году: «В настоящее время, выгнанный с позором из своей страны, он стал хуже, чем нищим и вором [28]: нахлебником парижских кабаков. Он переменил среду, воздух, социальный строй. Пробраться к нам в СССР он может только контрабандой. Граница легла между им и мной. Мы уже не знаем друг друга и не кланяемся при встрече.
Вот так порой уходят от нас наши герои. И прекрасно делают!»
Незаслуженно суровый отзыв, совершенно в духе тридцатых годов, дал о Вертинском Леонид Утесов в книге «Записки актера». Он писал, что «Вертинский мог нравиться только людям с извращенным вкусом. Такие слушатели ничем не отличаются от гурманов, которым нравится вонючая дичь». К чести Утесова, впоследствии относившегося к Вертинскому по-товарищески, надо добавить, что в более поздних изданиях мемуаров он снимет этот пассаж. Но в тридцатые годы его авторитетное мнение создавало Вертинскому дурную репутацию.
О том, каким драматическим было восприятие Вертинского юным поколением молодежи тридцатых годов, с замечательной проникновенностью рассказано Борисом Балтером в его повести «До свидания, мальчики».
заныл Сашка и тут же спросил: «Ничего?» Он где-то услышал новую песенку Вертинского. Вертинскому Сашка подражал здорово. Он и без того говорил немного в нос, а чтобы увеличить сходство, сжимал нос большим пальцем. Мы все делали вид, что не принимаем Вертинского всерьез, но как только слышали его песенки, так сразу настораживались. Одна Женя категорически его отрицала и затыкала уши, когда его слышала. Но по-моему, Женя поступала так из принципа: у нее было колоратурное сопрано, и она признавала только классику. Когда мы собирались, Сашка пел Вертинского как будто в шутку, как поют «Карапет мой бедный, отчего ты бледный».
В наш город пластинки с песенками Вертинского попали из Одессы. А в Одессу их привозили контрабандой моряки дальнего плавания. Песенки прижились и заполнили город. Пришлось проводить специальный комсомольский актив. Алеша произнес речь, в которой призывал оберегать молодежь от тлетворного влияния буржуазного декаданса. Мы не очень хорошо поняли, что такое «декаданс», но слово «буржуазный» решило участь Вертинского. Его песенки были признаны идейно порочными. Правда, от этого их не стали петь меньше. Но слушать Вертинского считалось некомсомольским поступком. Мы после комсомольского актива запретили Сашке даже в шутку петь Вертинского. Сами не пели и не разрешали другим. Нам даже в голову не приходило, что можно проголосовать за какое-нибудь решение, а потом это решение нарушить. Поэтому мы ушам своим не поверили, когда в прошлом году, проходя мимо дома Алеши Переверзева, услышали голос Вертинского. Мы могли, конечно, сразу позвать Алешу, но мы не позвали, мы сначала дослушали песенку. Мы ее и раньше слышали, но все равно сначала дослушали.
печально и хрипло прозвучали заключительные слова. Патефон еще пошипел и смолк. Мы переглянулись.
— Алеша! — громко позвал Сашка.
Чья-то рука задернула на окне занавеску.
— А-ле-ша! — хором крикнули мы.
Патефон снова зашипел, но тут же смолк. На терраску вышел Алеша, и у висков его белели остатки мыльной пены… наверное, брился.
— Привет, — сказал он.
— Алеша, ты знаешь, почему мы тебя вызвали, — сказал я.
Алеша обеими руками убрал со лба волосы и ушел в дом. Вернулся он через минуту, и в руках у него были пластинки. На терраску выбежала Нюра в коротком платье, из которого она давно выросла, и в волосах у нее торчали жгуты бумаги. Алеша поднял над головой пластинки и с силой бросил их на крыльцо. Нюра взвизгнула и убежала в комнату. Алеша сел на крыльцо, закурил, и руки у него дрожали.
— Липкие, как зараза, — сказал он. — Откуда она их только натаскала. Вот ведь как бывает, профессора. — Алеша говорил так, как будто оправдывался перед нами. И я подумал: «Нюра доставала пластинки Вертинского с его согласия», но что-то помешало мне сказать об этом Алеше. Сам не знаю, что…
ныл Сашка и поглядывал на меня. Я иронически улыбался, и в то же время мимолетная грусть легонько сжимала сердце.
— Почему мы решили, что Вертинский разлагает? — спросил Сашка. — Во всяком случае, на меня он не действует.
— Тебе кажется, что не действует. На самом деле очень действует, — сказал я. У меня дежурных фраз было сколько угодно в запасе. Когда я их произносил, то не придавал словам никакого значения.
Мы вышли на Витькину улицу. Море выглядело удивительно пустынным и плоским».
Перед нами маленькое исследование на тему «Вертинский и советская молодежь». Маленькое, но почти исчерпывающее. Итак, его пели, его хотелось слушать, мелодии Вертинского накрепко прикипали к сердцам, которые вовсе не чувствовали при этом никакой опасности разложения. Мир, лишенный таких странных и чарующих артистов, как Вертинский, показался ребятам удивительно пустынным и плоским.
Для тех же, кто видел социализм казарменным обществом с минимальными демократическими свободами, где люди вставали бы и ложились под звуки народного хора или военного оркестра, артист оказывался буржуазным декадентом, растлителем молодежи. Подобную позицию в тридцатые годы пытались оправдать — хотя честному человеку и тогда было трудно с этим смириться, как видим у Балтера, — огромными трудностями хозяйственного развития, необходимостью сплочения народа для преодоления разрухи, последствий недавней гражданской войны. Гораздо труднее понять тех людей, которые записывали Вертинского в разряд врагов советского искусства после смерти певца, в конце пятидесятых годов, ничтоже сумняшеся отдавали его «буржуазному Западу». А были и такие. В капитально подготовленном по богатству фактов и наблюдений труде Евгения Кузнецова «Из прошлого русской эстрады» (1958) Вертинский тоже будет поставлен в ряд представителей «реакционной линии развития русской буржуазной эстрады». Да и в наши восьмидесятые годы найдется еще немало управителей от искусства, которым хотелось бы видеть мир пустынным и плоским.
«Русский человек, потерявший родину, уже не чувствует расстояний», — сказал Вертинский, относя это в первую очередь к себе. В октябре 1934 года он плыл в Америку на пароходе «Лафайет». Позади осталась Западная Европа, в течение тринадцати лет бывшая к нему радушной и благосклонной, а теперь вдруг решительно давшая понять, что она может обойтись без него. Эпоха русского искусства в Париже завершилась. Ощущались первые предвестия войны в Испании. Близились «ревущие сороковые» годы. Холодные политические ветры гнали эмигрантов за океан. Поеживаясь на палубах суперлайнера, они как никогда остро сознавали свою беззащитность, затерянность на такой огромной, — но такой маленькой, что негде укрыться в политическую непогоду! — планете.
Однажды во время сильного шторма Вертинский одиноко сидел в салоне отдыха и включил радиоприемник. И вдруг сквозь треск электрических разрядов, сквозь шум от ударов океанских волн он услышал свой голос. Передавали его песню на слова Надежды Тэффи.