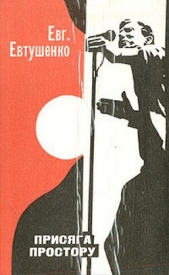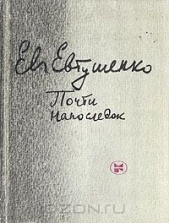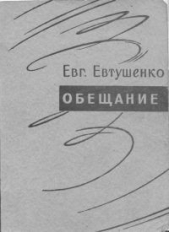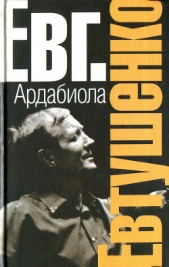Евтушенко: Love story
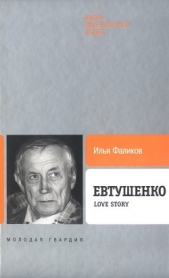
Евтушенко: Love story читать книгу онлайн
Поэт Евгений Евтушенко, завоевавший мировую известность полвека тому, равнодушием не обижен по сей день — одних восхищает, других изумляет, третьих раздражает: «Я разный — я натруженный и праздный. Я целе- и нецелесообразный…» Многие его строки вошли в поговорки («Поэт в России — больше, чем поэт», «Пришли иные времена. Взошли иные имена», «Как ни крутите, ни вертите, но существует Нефертити…» и т. д. и т. д.), многие песни на его слова считаются народными («Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую…», «Бежит река, в тумане тает…»), по многим произведениям поставлены спектакли, фильмы, да и сам он не чужд кинематографу как сценарист, актер и режиссер. Илья Фаликов, известный поэт, прозаик, эссеист, представляет на суд читателей рискованный и увлекательнейший труд, в котором пытается разгадать феномен под названием «Евтушенко». Книга эта — не юбилейный панегирик, не памфлет, не сухо изложенная биография. Это — эпический взгляд на мятежный XX век, отраженный, может быть, наиболее полно, выразительно и спорно как в творчестве, так и в самой жизни Евг. Евтушенко. Словом, перед вами, читатель, поэт как он есть — с его небывалой славой и «одиночеством, всех верностей верней», со всеми дружбами и разрывами, любовями и изменами, брачными союзами и их распадами… Биография продолжается!
Знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Успех стал врагом прежде всего лаконизма, сперва еще присущего поэту. Сцена требует мгновенной доходчивости. Евтушенко стал переговаривать и в самых интимных стихах. Он стал разъяснять. Прекрасно начатые стихи — скажем, «Пришли иные времена» или «Нефертити» — превращались в разжевывание того, что уже сказано. Пословицами стали как раз первые двустишия этих вещей.
Первый том — вся хрущевская оттепель. Евтушенко увенчал ту эпоху собственной великой стройкой — соорудил «Братскую ГЭС». Помнится, журнал «Физкультура и спорт», под сурдинку американствуя, поместил интервью с поэтом и фотографию, на которой поэт, обнаженный по пояс, обтирается снегом: для великого предприятия нужны великие ресурсы. Действительно, вложенная в поэму энергетика огромна, ее физическая масса трудноподъемна, но, что самое странное, она не расплющила поэзию, там и сям — «Нюшка», «Жарки», «Изя Крамер» — идущую широким потоком. Не знаю, насколько поэма отвечает объекту (самой плотине), но сам Евтушенко абсолютно соответствовал времени своего успеха. В психиатрии есть понятие «эффект неадекватности»: речь прежде всего о завышенных амбициях личности, потерявшейся в реалиях. Евтушенко — эффект адекватности. Тот Евтушенко.
Не проводя пошлых аналогий, помяну Царскосельский лицей — затем, чтоб прояснить значение Победы в Отечественной войне для отроков разных времен: тех и этих. Сибирскую станцию Зима, где рос в военное время у родственников мальчик Женя, можно считать его кормилицей в отличие от матери Москвы. К ее груди он припадает всю жизнь со всеми издержками столь затянувшегося грудного возраста. Но и в ранней поэме «Станция Зима», и в более поздних вещах у Евтушенко столько новонайденного и попросту свежего, что оттуда, предполагаю, черпали потом и прозаики — Шукшин, Распутин, Маканин. По крайней мере художественная перекличка этой прозы с предшествующей ей поэзией Евтушенко — знак определенного качества.
Его преследует страх неадекватности. Из чудесного стихотворения «Поздравляю вас, мама…» исчезли строки «Вы ему подарили любовь беспощадную к веку, / в Революцию трудную, гордую веру» — автор убрал их, готовя и двухтомник-80, и трехтомник-83, а зря: взаимоотношения пера и топора давно известны. Пришло время, задним числом он напечатал «Балладу о штрафном батальоне», «Сергею Есенину» — вещи, до того ходившие в списках. Кто скажет, что Евтушенко не был самиздатовским автором? К тому же ему приписывалось море чужого.
Он был разъездным поэтом. Международником он тоже был. Его принимали президенты, вожди революций, высшие иерархи КГБ, аляскинские звероводы. Он носил на лацкане пиджака знак почетного строителя Братской ГЭС, а на пальце перстень с бриллиантом. Он легко пошутил как-то: «В энциклопедиях обо мне будут писать как о крупнейшем прозаике XX века, начинавшем как поэт». Он по-человечески помог тысячам людей, чаще всего неблагодарных. Он привозил им из-за бугра лекарства, пробивал чужие книги, устраивал чужие дела.
Есть интроверты и экстраверты — Евтушенко то и другое в гигантских долях. Все одеяло мира он тянет на себя. Населив свое творчество количеством людей, равным целому немалому народу, он пишет исключительно о себе. Даже в статьях о других. Поэтическая антология, им составленная, — наверняка самая многоавторская среди всех антологий. Она стала продуктом перестройки, когда Евтушенко испытал второй звездный час. Перестройка кончилась.
Пришли иные времена, взошли иные имена.
Дать портрет Евтушенко невозможно — модель неусидчива и не влезает ни в один холст. Он в одиночку написал столько, сколько все поэты прошлого века. С ним может посоревноваться разве что Пабло Неруда, о котором, если не ошибаюсь, сказано: «Великий плохой поэт».
«Поэт» — лучшее слово, заимствованное большинством человечества у древних греков. Больше поэта может быть только его слава. Русская литературная слава лишь отчасти делается в кабинетах славистов. Евтушенковская суперпопулярность была равновелика упованиям народа на лучшую жизнь. Но ее первоисточник — его поэзия. Я воспроизвожу здесь память о давней радости. Читатель в России больше, чем читатель, и он стал уходить от Евтушенко еще в 70-х, что не мешало поэту собирать несметную публику. Она приходит смотреть не на экс-депутата, не на экс-лидера Союза писателей, т. д., т. п. Ей интересен поэт. Тот самый. Знаменитей которого не было на Руси и уже не будет («Не больше, чем поэт», 1995).
Журналы по-прежнему выходят не по календарю. Своевременное чтение их затруднительно. Стихов печатается много. Стихов больше, чем поэтов. С другой стороны, поэты публикуются чаще, чем их стихи. Среди поэтов, представленных в № 1 «Знамени»-95, по-настоящему и по-новому интересен С. Гандлевский, но он выступил с прозой, грустной повестью «Трепанация черепа», выговоренной на одном дыхании. Это вещь о смерти, о любви, о славе, о товариществе, о том соре, из которого растут стихи, и меньше всего о самих стихах (тоже хорошо). Гандлевский пишет не эстетический трактат, а историю болезни — получается история выздоровления, слава Богу. Пушкин, Маяковский, Багрицкий, Сельвинский, Уткин — не столь уж и странная смесь детских учителей автора. Неплохая закваска для первоначального идеализма, так и не уничтоженного в процессе целенаправленного саморазрушения. Гандлевский пишет исповедь, состоящую из баек (его слово), то есть эпизодов биографии, идя, видимо, по наитию, полагаясь на отбор памяти, которая как бы автономно от автора строит его речь и ставит акценты. Независимо от него отчетливо выявляется та линия судьбы, о которой он хотел бы, кажется, говорить меньше всего — коловращение поэтов его круга в ненавистной близости от советского литературного Олимпа: похмеляются они все-таки в Переделкине, на даче драматурга, и Межиров, заикаясь, деньжат им все же одалживает, и собачку уводят от Евтушенко, а не от сторожа Васи. Тут боли, может статься, не меньше, а больше, нежели от количества выпитого. Поэзия исполнена гордыни — проза проговаривается. Такая проза сильна читательским любопытством — моим интересом к лицам. Между прочим, принцип такой прозы смежен с опытом того же Евтушенко — в романах последнего, натурально, захватывают сцены из жизни поэта, например взаимоотношения с персонажем по имени Любимец Ахматовой.
…Само название воспоминаний Вячеслава Вс. Иванова «Голубой зверь» мгновенно указывает на поэзию. Но не только. Иванов обнажает феномен: дети советской творческой элиты. Девятилетний Кома (домашнее прозвище автора) записывает для себя, что в СССР — диктатура, Сталин — диктатор, а Калинин — фиктивный президент, и мама его за это не наказывает, а все дальнейшее его развитие идет в этом направлении без отклонений. Эти дети, формируясь в среде конформистского цинизма, питались высокой культурой той же среды. Федин говорит Коме: видишь Ливанова, он завтра идет играть в советской пьесе, и я делаю то же самое. Отец и Пастернак выбиваются из ряда. Между тем Пастернак знаменитое «Быть знаменитым некрасиво» пишет с перерывом на обед. Однако: «Пастернака мучило то, что он стал писать по-другому. Иногда он спрашивал, не ошибочен ли тот новый стилистический путь, который он выбрал». Голубой зверь обитал в переделкинском лесу! Дети не восстали на любимых отцов. Иванов сводит имена «несоединимых писателей». Можно ли что-то новое сказать о Зощенко? Можно: «Он потом нам рассказывал: “Я знал поэзию Блока, потом Гумилёва, Ахматовой. Мне хотелось понять, кто из современных поэтов найдет новые слова, передаст новый язык”». «Он нашел эти черты у Евтушенко, читал нам наизусть его строки “И вот иду я с вывертом” (из “О свадьбы в дни военные”)» («Стыковой столб», 1995).
Иосиф Бродский увел нынешнее стихотворство в то необозримое пространство, где слова не сплочены в слово. Сам-то он знает дело туго, его словам тесно в его просторах. Он как бы намеренно утаивает врожденный лаконизм и почти нечаянно проговаривается о нем в «Части речи». Он пишет свой глобальный эпос, упрямствуя перед лицом традиционного мелодизма. Нынешние новички, бросившись по следу Бродского, чуть не все гомеричны по замаху. Ан с дыхалкой плохо. Почти никто не добегает до конца первой же строки. Уже где-то на третьей-четвертой стопе смотришь на пятки кроссовок, а не на сам бег, долженствующий быть оленьим. Торжествует количество. Забыли о достоинстве вздоха. Может быть, это реакция на былой подтекст, на советского Эзопа, столь доблестно и добросовестно потрудившегося вчера. Дети выговариваются за отцов? Вряд ли. Хотя бы по обилию сделанного Евтушенко все равно первый («Шедевр», 1995).