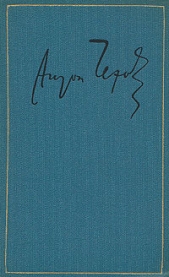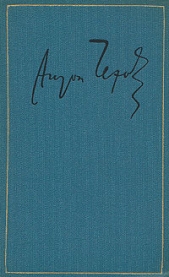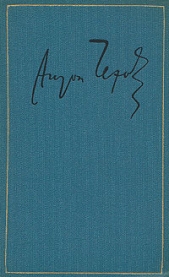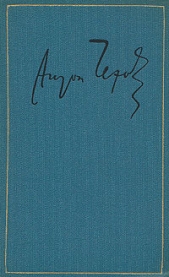Чехов. Жизнь «отдельного человека»
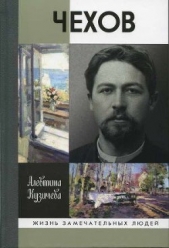
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чехов рассказывал Горькому в письме от 25 ноября: «Одолевают чахоточные бедняки. <…> Видеть их лица, когда они просят, и видеть их жалкие одеяла, когда они умирают, — это тяжело. <…> Третьего дня здесь в приюте для хроников, в одиночестве, в забросе умер поэт „Развлечения“ Епифанов, который за 2 дня до смерти попросил яблочной пастилы, и когда я принес ему, то он вдруг оживился и зашипел своим больным горлом, радостно: „Вот эта самая! Она!“ Точно землячку увидел». Это «жалкое» одеяло, видимо, стояло в глазах Чехова. В эти же дни он упомянул его в другом письме: «Самое ужасное — это одиночество и… плохие одеяла, которые не греют, а только возмущают брезгливое чувство».
В горькой шутке Чехова, что чахоточные бедняки смущают его «сытое и теплое спокойствие», что прятаться от беды грешно, проступало нечто большее, чем смущение и сострадание человека, пораженного той же болезнью. Слово «грех» не так часто встречалось в письмах Чехова, даже в речевых оборотах. Он словно избегал его. В его рассказах грех, совершенный героем (против своей совести, против жизни другого человека), — это горе, мука, душевная пытка, маета («Барыня», «Казак», «Перекати-поле», «Убийство»), Тот же, кто не ощущает своего греха, не терзается, не мучается, тот потерян для добра («Встреча», «Воры», «Бабы»).
О загубленном таланте и о погубленной жизни как о грехе человека перед самим собой Чехов не однажды писал в письмах в середине 1880-х годов. Не в последнюю очередь имел в виду судьбы старших братьев, которых он не спас, оказался бессилен перед их губительными пристрастиями. Однако не впадал никогда в холодное учительство. Судя по дневниковым записям, по письмам, по записным книжкам, Чехов с годами все пристальнее всматривался в минувшее. В конце 1899 года он обратился к давнему замыслу об умирающем архиерее, но почему-то опять отложил этот сюжет. Что-то удерживало его, словно не наступило время. Или чего-то недоставало, и Чехов «поджидал».
Пока, уже недомогая, он заканчивал повесть «В овраге». Говорил, что болеет «на ходу». Завершив, решил, что эта повесть — «последняя из народной жизни». В повестях «Мужики», «В овраге», в рассказе «Новая дача», эта жизнь — какой-то новый, не ведомый дотоле русский эпос. В том, как рассказано о ней, — какая-то особенная житийность русской прозы.
Отдельная судьба связана была с обшей, как и каждая отдельная фигура была вписана в общую картину. Между ближним и дальним планами ощущались пространственные связи, а всё объединялось общим повествовательным воздухом, единым авторским чувством. Но эта целостность не замкнута, а бесконечна. Обе «народные» повести заканчивались изображением дороги, по которой идут мать и дочь. И ничто не обещало им легкого пути: «Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились».
Они только что встретились с стариком Цыбукиным. И словно не помня убийства младенца, совершенного в его доме, и зла, сотворенного над Липой, изгнанной из этого дома, обе поклонились ему: «Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть». И долго обе крестились потом — то ли о спасении его грешной души, то ли своей собственной.
Чехов успел завершить работу до гостей — на Рождество в Ялту приехали Мария Павловна и Левитан. Поездка далась неизлечимо больному Исааку Ильичу тяжело. Он с трудом одолевал при ходьбе даже легкий подъем. Прогулки Чехова и Левитана по Ялте не затягивались, у обоих была сильная одышка — у Левитана из-за больного сердца, у Чехова из-за легких. В один из дней Левитан написал этюд, который вставили в каминное углубление, будто для него и сделанное. Чехов рассказал об этом Книппер: «На моем камине он изобразил лунную ночь во время сенокоса. Луг, копны, вдали лес, надо всем царит луна». А несколькими строчками выше рассказал о своей новой «страшной» повести: «Много действующих лиц, есть и пейзаж. Есть полумесяц, есть птица выпь, которая кричит где-то далеко-далеко: бу-у! бу-у! — как корова, запертая в сарае. Всё есть».
В описании двух пейзажей, случайно или нет объединенных Чеховым в одном письме, в двух соседних абзацах тем самым уловлено созвучие, какая-то глубинная связь с настроением от встречи с Левитаном. Серебряный полумесяц и выпь, с ее заунывным и глухим криком, соловьиное пение, перекликание лягушек — всё это из описания ночи, когда Липа блуждала с мертвым ребенком по степи: «Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз! <…> О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы… Когда на душе горе, то тяжело без людей…»
Глава четвертая. УЖАСНО ДЛИННАЯ ЗИМА
В последние дни 1899 года Чехов написал для «Петербургской газеты» рассказ «На святках». На первый взгляд это странно — два года назад он отказал Соболевскому, просившему рассказ для праздничного номера. Сослался тогда на то, что не любит «святочных номеров» — «этой кучи рассказов, стихов и благочестивых рассуждений». К тому же Чехов, человек не злопамятный, но не извинявший некоторые обиды, вряд ли забыл, какую роль сыграла «Петербургская газета» в травле «Чайки» осенью 1896 года. Не гонорар же прельстил его? Сумму, 350 рублей, а то и больше, ему охотно заплатили бы и другие газеты, одолевавшие подобными просьбами.
Всё началось с телеграммы Худекова от 21 ноября 1899 года. Он просил разрешения поместить в своей газете рассказ, уже опубликованный в ней когда-то, но не назвал его. Чехов не возражал, однако адресовал к Марксу. Тот согласился. Выяснилось, наконец, что речь шла о рассказе «Художество» (1886). Худеков поблагодарил за разрешение и в своей приторной манере попросил «одолжить», прислать «новенький, свеженький рассказец» для рождественского номера. И уже 27 декабря Худеков «низко, пренизко» кланялся за рассказ «На святках», за такое «доброе расположение». В конце письма рассказал: «Вчера вынесли мы на Волково Григоровича. Как не хотелось ему умирать. Незадолго перед смертью он был у меня и всё твердил „жить хочу!“. Долго и много вспоминал про Вас и как душевно отзывался он о „невольном изгнаннике“, обреченном жить вдали от друзей… в прескучной Ялте».
Григорович умер в Петербурге 22 декабря. Может быть, рассказ «На святках», неожиданно написанный Чеховым между 20 и 25 декабря, оказался откликом на эту весть. В его интонации печаль и взгляд в прошлое. Зачин письма старухи Василисы к дочери — как послание в минувшее, словно скрытое отражение того настроения, в каком Чехов пребывал в последние годы: «А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей! Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!» Эти строки будто перекликались со строками из повести «Мужики»: «О, какая суровая, какая длинная зима!» — и строками из писем Чехова о долгих томительных ялтинских зимах.
Всё, наверно, отвечало подспудному настроению Чехова, которое прорывалось в письмах, в декабре 1899 года: «Никогда в Ялте не было так гнусно, как теперь. Уж лучше бы я в Москве сидел»; — «Я жалею, что не могу приехать в Москву хоть на недельку. <…> Хандры у меня нет, но скучаю я изрядно, скучаю от вынужденной добродетельной жизни». Чехов скучал в ту зиму не «изрядно», а сильно. 8 января 1900 года он написал о Ялте и о своей неволе Суворину, вдруг возобновившему переписку: «А этот милый город надоел мне до тошноты, как постылая жена. Он излечит меня от туберкулеза, зато состарит лет на десять. Если поеду в Ниццу, то не раньше февраля».
Дело было и в Ялте, уже известной и понятной до мелочей. И в запрете врачей покидать ее. Но, пожалуй, медицинское вето влияло на настроение Чехова сильнее, чем скука зимней Ялты. Любая внешняя «узда» — в образе жизни, во взаимоотношениях — судя по истории его знакомств, по письмам, по дневникам современников, раздражала Чехова. Нажим, запрет, условия с чьей-то стороны порой расстраивали, сдерживали, даже меняли его отношения с человеком. Болезнь же всё сильнее и заметнее ограничивала Чехова, что-то отнимала у него. Отменяла поездки, некоторые привычки, какие-то намерения, обещания. Дозировала разговоры, диктовала ритм и темп будничной жизни. Грозила быстро состарить не только физически, но и душевно.