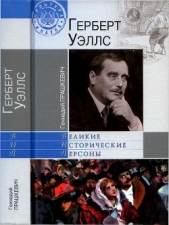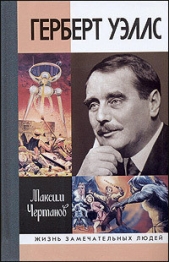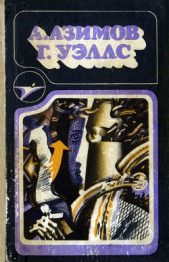Опыт автобиографии

Опыт автобиографии читать книгу онлайн
Приступая к написанию воспоминаний, автор и не подозревал, какое место в его творчестве они займут. Поначалу мемуары составили два тома. Со временем к ним добавился еще один, «Влюбленный Уэллс», — об отношениях с женщинами. В результате «Опыт» оказался одной из самых читаемых книг Уэллса, соперничая в популярности с его лучшими фантастическими романами.
В книге содержатся размышления не только над вопросами литературы. Маститый писатель предстает перед нами как социолог, философ, биолог, историк, но главное — как великая личность, великая даже в своих слабостях и недостатках. Горечь некоторых воспоминаний не «вытравляет» их мудрости и человечности.
«Опыт автобиографии» — один из важнейших литературных документов XX века.
На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я начал знакомить Одетту со своими друзьями, которые приезжали в Канны или в Ниццу. Постепенно я давал ей понять, что материально чувствую себя гораздо свободнее, чем она могла представить вначале. Я стал задумываться о ее будущем и обеспечил ей независимый доход.
Однако читателю вовсе не следует думать, будто во время так называемой добродетельной стадии Одетты мы постоянно жили в атмосфере тишины и безмятежности. У нее нередко менялось настроение, и в плохом настроении она беспричинно ссорилась по пустякам. Каждый месяц она день-два бывала не в себе. Распекала слуг, не желала разговаривать за трапезами и донимала мелкими оскорблениями живущую поблизости владелицу нашего дома, баронессу де Ривьер. К тому же она вела язвительную переписку с зятем из-за денег, что он взял у нее в долг, и тайно от меня писала ядовитые письма разным людям, которые пробудили в ней злые чувства во время ее похождений в Грузии и в России. И когда в нашу совместную жизнь стали входить еще какие-то люди, особенно новые для нас обоих, в ней постепенно стала обнаруживаться подспудная нервозность, которую было очень трудно преодолеть. Если бы мне вздумалось рассказывать эту историю достаточно подробно, я мог бы показать, что, по мере того как увеличивались наши траты и расширялся круг знакомых и перед Одеттой открывалось все больше возможностей, в ней оставалось все меньше первоначальной приниженности и она все чаще бывала неуравновешенно перевозбуждена и самовлюбленно уверенна в себе. Ошеломленная и успокоенная тем, что ей посчастливилось меня заполучить, — а вначале она видела меня сквозь возвеличивающую дымку престижа, себя же ощущала нищей неудачницей, — она какое-то время вела себя вполне хорошо. Потом стала самоутверждаться. Она забыла наш первоначальный уговор и вспомнила свои сомнительные устремления. То было возвращение в мир подавленных порывов и перечеркнутых воспоминаний. Одетта возвращалась туда освеженная и успокоенная. Она возобновила свои неудавшиеся попытки завоевать выдающееся положение в мире.
Мне, тесно с ней связанному и эгоистичному, она стала надоедать.
Я заметил, что она понятия не имеет, как занять людей, только и знает, что «выхваляется» перед ними, как это называют школьницы. Когда мы жили вдвоем, вне общества, в нашу лу-бастидонскую пору, только я и был ее публикой, причем публикой, которая не давала ей развернуться. Одетта вела себя осмотрительно, исполняла роль преданной подруги. Но с появлением новых людей я оказался в тяжелом положении, стал, так сказать, покровителем актрисы, и перед новой публикой, которую я для нее собрал, она позволяла себе рисоваться и позировать, что до сих пор я запрещал. Она принялась шумливо выставлять себя напоказ, куда как громогласно рассказывала о своих ранних годах в «посольстве», о своей глубинной духовной жизни в пору монашества, о своем религиозном опыте, о своих удивительных исследованиях Кавказа и Северной Африки, о местах, которые до тех пор были недоступны культурным женщинам (и почему), о книгах, ею написанных, и о тех, что собирается написать, о ее удивительном проникновении в психологию людей и своеобразном изобразительном даре, о ее огромной, удивительной любви ко мне. Всякий раз, как я пытался перевести разговор на что-нибудь, кроме ее персоны, она мне перечила и не давала слова сказать. Потом разыгрывала ссору со мной и тут же меня прощала — вскакивала из-за стола и кидалась меня обнимать. А то принималась рассуждать о чуде нашей интимной близости, да еще с живыми подробностями.
Я сидел в стороне, не принимая в этом участия, сперва изумлялся, а потом приходил в ярость.
Когда гости наконец не выдерживали и уезжали, я уходил прогуляться под оливами, чтобы обрести душевное равновесие, а Одетта удалялась в свою комнату, и дулась, и плакала — ведь я ее не поддержал, подвел, пытался унизить. За обедом она не переставая сетовала.
«О Господи! Заткнись!» — взрывался я.
«Я же посвятила тебе жизнь!»
За этим, быть может, опять следовало прощение, а потом длинная тирада по поводу уехавших гостей — моих друзей. Английские женщины все скучны и неизящны, а мужчины плохо воспитаны, и так далее и тому подобное…
Я сидел и дулся, точно мальчишка, и размышлял о том, что осталось всего две недели (или, кажется, десять дней?) до моего отъезда в Англию.
После обеда каждый возвращался к своим занятиям, и, случалось, я не видел ее до самого вечера, когда она впархивала ко мне в комнату, соблазнительно полураздетая, надушенная жасмином, чтобы «пожелать спокойной ночи», заявить о своей непоколебимой преданности мне и подтвердить ее.
«Ну почему ты не понимаешь меня? Все это я делаю ради тебя. Я хочу, чтобы ты мог мной гордиться».
Несмотря на эти бури, на то, что все яснее становилось, насколько мы несовместимы, в Лу-Бастидоне я много и плодотворно работал; жизнь там была на редкость здоровая; Одетта представала в обрамлении солнечного света, кипарисов, синих гор и отдаленного моря — и на время мне удавалось разрядить смехом набухающие раздражением тучи, что предвещали очередную грозу из-за ее все возрастающей агрессивности.
Передо мной всегда открыта возможность уйти, размышлял я, но в ту пору мне на ум не приходила ни одна женщина, которая могла бы заменить Одетту. Я ни в коей мере не был в нее влюблен, но достаточно успешно проделал уже почти все, что свидетельствует о любви. Мне казалось, ничего другого жизнь и не могла мне предложить. Одетте не следует занимать в моем существовании больше места, чем я ей отвел, мне не следует знакомить ее с друзьями, которым она может не понравиться, и, чтобы быть твердо уверенным, что у меня всегда есть возможность уйти, я перечислил деньги на ее имя и учредил траст в Америке, который даст ей независимый доход. Все же пока я был настроен оставаться с ней и меня настолько удовлетворяла эта прерывистая жизнь под провансальским солнцем с неизменными отъездами и возвращениями, что, изрядно утомленный излишней простотой санитарно-гигиенических устройств и многими практическими неудобствами Лу-Бастидона, я вскоре начал строить mas, больше и красивее Лу-Бастидона, с ванными комнатами и хорошей кухней, с гаражом, с комнатами для гостей, и так далее, в очень красивом месте, за четверть мили от нашего теперешнего жилища, где громоздились скалы, стремился поток и росли замечательные деревья. То был Лу-Пиду, и строительство закончилось в 1927 году. Я купил второй автомобиль, нанял Мориса Голетто, мужа Фелисии, в качестве моего шофера и подготовил все необходимое для постоянного проживания в Провансе. Одновременно я распорядился таким образом, чтобы на случай, если я переселюсь в Англию, Одетта стала независимой, ибо я оформил на нее узуфрукт на Лу-Пиду, и тем самым, если она станет невыносима, я смогу в любую минуту покинуть Лу-Пиду и, пока не истечет срок узуфрукта, мне незачем будет всерьез беспокоиться ни о доме, ни о ней самой. Я пытался все это ей растолковать, но подобный отказ от собственности был недоступен ее левантинскому складу ума. С каждым предупреждением и с каждым примирением ее уверенность в своей власти надо мной возрастала. К тому времени, как она окончательно убедилась, что незаменима, она стала совершенно невыносима.
Я строил Лу-Пиду с удовольствием и сделал немало, чтобы польстить Одетте и способствовать ее уверенности в себе. По моей просьбе каменщик вывел над камином надпись «Сей дом построили двое влюбленных» и разукрасил ее, и она и сейчас там, а на некоторых окнах я написал vers libre [54] о виноградной лозе, об оливах и о любви. Для Одетты это было равносильно свидетельству о браке.
Возвращение ее прежнего «я» — ее, так сказать, подлинного «я» — происходило одновременно со строительством дома. Страх потерять меня, который в начале нашей связи оказывал самое благотворное действие на ее поведение, казалось, совершенно исчез. Кто бы к нам ни приходил, она тут же принималась хвастаться своим домом, своим автомобилем, своим личным состоянием — оно исчислялось восемью-, девятьюстами фунтов в год, но она предпочитала говорить о тысяче — и все эти деньги шли только от меня. С каждой новой свободой, что я ей предоставлял, я спускался все ниже с той божественной высоты, на которую она возвела меня вначале. Теперь она строила планы не только относительно своего будущего, но и моего тоже. Ей требовались жемчуга, ей требовался салон в Париже, где под ее влиянием я смогу играть более значительную роль в мире политики. Французской политики, надо понимать!