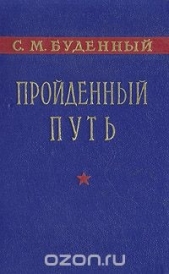Книга воспоминаний

Книга воспоминаний читать книгу онлайн
"Книга воспоминаний" известного русского востоковеда, ученого-историка, специалиста по шумерской, ассирийской и семитской культуре и языкам Игоря Михайловича Дьяконова вышла за четыре года до его смерти, последовавшей в 1999 году.
Книга написана, как можно судить из текста, в три приема. Незадолго до публикации (1995) автором дописана наиболее краткая – Последняя глава (ее объем всего 15 стр.), в которой приводится только беглый перечень послевоенных событий, – тогда как основные работы, собственно и сделавшие имя Дьяконова известным во всем мире, именно были осуществлены им в эти послевоенные десятилетия. Тут можно видеть определенный парадокс. Но можно и особый умысел автора. – Ведь эта его книга, в отличие от других, посвящена прежде всего ранним воспоминаниям, уходящему прошлому, которое и нуждается в воссоздании. Не заслуживает специального внимания в ней (или его достойно, но во вторую очередь) то, что и так уже получило какое-то отражение, например, в трудах ученого, в работах того научного сообщества, к которому Дьяконов безусловно принадлежит. На момент написания последней главы автор стоит на пороге восьмидесятилетия – эту главу он считает, по-видимому, наименее значимой в своей книге, – а сам принцип отбора фактов, тут обозначенный, как представляется, остается тем же:
“Эта глава написана через много лет после остальных и несколько иначе, чем они. Она содержит события моей жизни как ученого и члена русского общества; более личные моменты моей биографии – а среди них были и плачевные и радостные, сыгравшие большую роль в истории моей души, – почти все опущены, если они, кроме меня самого лично, касаются тех, кто еще был в живых, когда я писал эту последнюю главу”
Выражаем искреннюю благодарность за разрешение электронной публикаци — вдове И.М.Дьяконова Нине Яковлевне Дьяконовой и за помощь и консультации — Ольге Александровне Смирницкой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На расклейке карт я пробыл недолго. Этот период запомнился не работой, а тягостным хождением по нужде. О канализации в Беломорске и не слыхивали, и в тылах нашего роскошного каменного дома был сооружен большой деревянный нужник, расположенный в низинке, посреди незамерзающего озера мочи. Где-то в сторонке был, очевидно, нужник для генералов, но когда в штабе появились девушки, они ходили в большой нужник, куда и все. Это бы все еще ничего, да Янковскому и мне пока что не выдали пропусков в здание штаба — якобы потому, что мы, хоть и на офицерской должности, были «рядовые необученные», на самом же деле — впредь до проверки. Выйти наружу по черной лестнице мимо часового было можно, но вот обратно войти было много трудней; если попадался добросовестный часовой, так приходилось дожидаться, пока пройдет знакомый командир (в то время еще не «офицер») и проведет с собой; а телефона, чтобы позвонить к себе в отдел, у входа не было.
Пройдя мимо часового к озеру мочи, человек прыгал с ледяной глыбы на дощечку, с дощечки на кирпич, пока добирался до входа в нужник. Дальше было труднее: в нужнике моча стояла уже по колено или даже выше; ловким движением человек вскакивал на деревянное корытце писсуара и по нему добирался, балансируя, до кабинки. Здесь его ждал намороженный каловый кол, поднимавшийся почти на метр над очком. А потом — тот же путь обратно к часовому.
В конце концов капитан Б. объявил Янковскому и мне, что есть приказ нас отчислить и перевести в резерв. Я понял, что меня отчислили из-за «репрессированного» отца, Янковского же из-за того, что он был вегетарианцем (он даже жену и дочь обратил в вегетарианство). Очевидно, его сочли сектантом, хотя он исходил из чисто гигиенических соображений: мясо, макароны и еще что-то — «шлаковая пища», вредная для организма. Идеология же его была вполне советской [258].
Резерв находился в деревянном бревенчатом двухэтажном домике. Командиров (т. е. офицеров) там было мало: одна комната с двухъярусными нарами, да и она вмещала всего четверых. Двое попали сюда, как они считали, неизвестно почему (то были два «военинженера», один со шпалой — капитан, другой с тремя кубиками — старший лейтенант). Они целыми днями лежали на нарах и весьма весело рассказывали неописуемые истории непечатного содержания.
Армия — это громадное количество молодых мужчин без женщин. Кроме того, в отличие от политических размышлений, разговоры о женщинах были совершенно безопасны. Беседовать о политике можно было в те годы только с глазу на глаз с самыми надежными и близкими друзьями, лучше на улице; за «паникерство» или за «антисоветские» разговоры могли подвести под трибунал.
Янковский говорил со мной о музыке и своей профессии; мы ходили с ним в оперетту. Из Петрозаводска был эвакуирован в Сороку этот театр с голодными музыкантами и с откормленными опереточными примадонной и тенором. Видимо, эти актеры (оба, говорят, москвичи) имели дополнительный паек [259]. Все, кто играл вторые роли, были очень тощими — их паек, надо полагать, не мог сравниться ни с примадонским, ни с нашим. На всю оперетту было только два мундира для любой военной роли: фиолетовый с серебристыми нашивками и галунами. Мы с радостью узнавали их то на гусаре, то на улане, смотря по пьесе.
Репертуар театра был не обширен: давали поочередно «Сильву», «Веселую вдову», «Роз-Мари» и, кажется, изредка «Корневильские колокола». Мы ходили ежедневно и в конце концов пересмотрели каждый спектакль десяток раз. Зрителей было немного, билеты всегда продавались, но зал (в деревянном здании клуба или кино) все-таки наполнялся — почти исключительно офицерами.
После каждого спектакля Янковский рисовал в своем дневнике соответствующее впечатлению количество гитар (три гитары — сильное музыкальное впечатление).
Были и другие развлечения. По дороге в столовую у моста стоял облезлый деревянный домик кубической формы, некогда голубой, под выцветшей красной округлой крышей: здесь находилась городская библиотека. Ее еще не эвакуировали. Туда-то я и ходил. Там были две девушки, очень уродливые как часто среди карелов, но очень приятные и славные. Книг, которые можно было бы читать, не было никаких. Был граммофон, на который девушки по моей просьбе ставили пластинки. На одной с лицевой стороны было «Вдоль по улице метелица метет», а на обороте — мой любимый романс «Однозвучно гремит колокольчик». На другой были ирландская и шотландская застольные Бетховена. Они, конечно, провертели их мне почти сотню раз: запомнилось как что-то щемящее на всю жизнь. А больше заняться было нечем. Из Свердловска писем еще не было.
IV
Однажды в помещение резерва вошел высокий, весь в ремнях, очкастый человек с толстым носом; в петлицах у него были три шпалы старшего батальонного комиссара и на рукаве комиссарская звезда.
Мы лежали на нарах, но сразу вскочили и вытянулись по стойке «смирно». Вошедший обратился ко мне, назвав меня по фамилии. Спросил, знаю ли я немецкий язык, и сказал, что я буду работать в Политуправлении фронта.
— Через три дня можете явиться. — Почему через три дня — оставалось неясно.
Улиц Бсломорска мы не знали, обедать ходили через большой мост только по главной, «Солунинской улича».
В Карелии, кроме русского, был свой язык — или, вернее, ряд бесписьменных диалектов. В одном районе, Ухтинском, говорили фактически даже просто по-фински, и даже на самом лучшем финском языке, ибо именно здесь была записана Калевала, финский народный эпос. В Карельской автономной республике до 1937 г. официальным языком наряду с русским был финский. Когда-то здесь было много финнов, в основном из тех, кто во время гражданской войны в Финляндии отошел на советскую территорию; было также порядочно финнов-коммунистов из США и Канады. Почти всех в 1937 г, пересажали, и к нашему приезду их практически не было. В финскую войну Карелия из автономной стала Карсло-Финской союзной республикой (в расчете на присоединение к ней Финляндии?), и тогда снова ввели официально финский язык, тем не менее в промежутке официальным языком был карельский. Его срочно начали изобретать (трудно было объявить государственным языком какой-либо один из бесписьменных диалектов) и делать письменным языком. Но слов, которые совпадали с финскими, боялись из-за возможных (смертельных) обвинений в финском национализме. Быстро придумали своеобразный «общий для всех диалектов» письменный карельский язык. Сущность его заключалась в следующем: во-первых, письменность была принята русская, вместо финской латиницы. Во-вторых, существительные и прилагательные, включая словообразовательные суффиксы, были, как правило, русские, глаголы тоже были больше русские, но с финскими окончаниями; наречия, местоимения и служебные слова были финские (они по большей части совпадали с финскими и в реальных карельских диалектах). [260] Для русских слов брали поморские формы. Поморы цокают: «цай, улича». Женского рода в карельском нет, поэтому «Солунинской улича». Надо сказать, что местные городские карелы почти на таком языке и действительно говорили («Ванька городаст тулла?» — «Ванька пришел из города?») [261].
Первый секретарь Карсло-Финского ЦК был карел (из коренной национальности, как было принято для всех союзных республик), но все карелы носили русские фамилии, и он был Прокофьев. Сталин сказал, что первый секретарь должен носить финскую фамилию. «Пусть «будет Прокконен». Все втихомолку смеялись, потому что звукосочетание пр- невозможно ни в карельском, ни в финском языке — тогда уж нужно было «Рокконсн». Но Сталина же не поправишь! [262]
Одним из результатов всей этой лингвополитики было то, что никто так и не знал, как называется наш город.
На другой день после посещения нас старшим батальонным комиссаром я пришел по «Солунинской улича» с обеда, и мне говорят: приходил старший лейтенант и приглашал зайти по такому-то адресу.