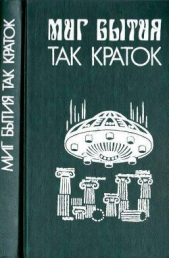Книга бытия (с иллюстрациями)

Книга бытия (с иллюстрациями) читать книгу онлайн
Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Разумеется, с возвращением хозяина посещения моего будущего отчима прекратились, но кто-то, наверное, донес отцу, что жена неверна.
Помню, был вечер, мы шли по Балковской и, свернув на какую-то улицу, остановились около ничем не примечательного дома. Мама вошла во двор. Я спросил, куда она отправилась, отец зло усмехнулся.
— К адвокату.
Я не знал, что это такое — поэтому не удивился, что адвокат живет на окраине города, и не стал ничего спрашивать. Зато спрашивать начал отец.
— Сережа, можешь сказать мне правду?
— Конечно, папа, — заверил я.
— Когда меня не было, к маме кто-нибудь приходил?
— Один дядя приходил, — мигом выдал я маму.
— Какой дядя?
— С черной бородой — он еще подарки мне принес, — охотно доносил я.
— Ночевать оставался?
— Оставался. Он утром ушел. Мама еще не вставала, а он ушел.
Больше отец ни о чем не расспрашивал. Мама задерживалась. Я засмотрелся на что-то и повернулся спиной к воротам. Обернуться меня заставил сдавленный мамин крик.
Увиденное отпечаталось в мозгу, как на фотографии. Левой рукой отец схватил маму за грудь, а правой занес сверкнувший в глаза нож. Лица отца не помню (видимо, я не смотрел на него), но лицо матери говорило ясней слов. Она не защищалась, не вырывалась, не звала на помощь, она беззвучно кричала — широко распахнутыми глазами, крепко сжатым ртом: «Ах, так! Ах, ты такой! Тогда убивай!»
Я прыгнул на отца, повис у него на руке и потерял сознание. Очнулся я в аптеке на Степовой. Надо мной наклонился человек в белом халате, в стороне молча стоял отец, мать со слезами просила аптекаря спасти меня. Я посмотрел на них — и снова потерял сознание.
Второй раз пришел в себя уже дома, в постели. Около меня сидела мама, по комнате ходил угрюмый отец, на руке у него белела повязка. И опять я куда-то провалился — может быть, просто уснул. А когда сознание возвратилось окончательно, отца в квартире уже не было — прошло пять лет, прежде чем я увидел его снова.
Конечно, я стал спрашивать маму, почему отец хотел ее убить. Она удивилась, потом засмеялась, потом спокойно разъяснила, что ничего не было, я видел страшный сон — вот и все.
— Не думай об этом никогда! — говорила она ласково. — Мало ли какие сны пригрезятся. Бывают и ужасней твоего!
Я сердился, настаивал: это был не сон. Но она, не раздражаясь, непривычно нежно твердила свое и только через тридцать лет, уже после войны, рассказала правду.
Мой отчаянный прыжок спас маму. Я вцепился зубами в руку отца — и он не сумел ударить. И даже потеряв сознание, я не разжал челюстей. Я висел у него на руке — он не смог меня стряхнуть.
Подняв нож, отец лезвием разжал мне зубы — мама помогала ему. Кровь из прокушенной руки заливала одежду, но отцу было не до крови — его перепугала моя безжизненность, белое лицо, остекленевшие глаза. Прижав меня к груди, он кинулся в аптеку. Мама бежала за ним изо всех сил, но он далеко опередил ее. Когда она ворвалась в аптеку, меня уже приводили в сознание, а отцу делали перевязку.
— Он нес тебя на руках от Степовой до Мясоедовской, — говорила мама. — И все бежал: его пугало, что ты опять без сознания. А потом мы вызвали врача, тот провел ночь у твоей постели. Мы рассказали ему правду, и он посоветовал объяснить, что тебе приснилось это нападение. Он сказал: ты очень впечатлительный, ты можешь стать психически больным, если будешь думать, что мать чуть не убили на твоих глазах. И мы с Сашей поклялись, что никогда не расскажем тебе, как все происходило.
Возможно, совет врача был мудр. Но суть в том, что я не усомнился ни на секунду: страшные сны посещали меня куда реже, чем страшная реальность. И я всегда интуитивно знал, что горькая правда лучше сладкой лжи.
И всю жизнь ненавидел, когда мне лгали!
8
Воспитывал ли меня отец? Не знаю. Вернее — не могу ответить в двоичном коде: да или нет. Все было сложней.
Обычных наставлений — делай то-то, не делай этого — скорее всего, не практиковалось: слишком редким гостем он был в семье. Зато меня воспитывало само его существование, то, что я знал о нем, то, что говорили о нем другие. И когда он — в редчайших случаях — играл не очень нравившуюся ему роль учителя, уроки запоминались на всю жизнь. О двух из них я расскажу.
Первый был преподан в одно из его возвращений в Одессу (не то в «отпуск из ссылки», не то летом семнадцатого). Утром я подрался во дворе с приятелем, одолел его и на традиционно еврейско-немецкий вопрос: «Брот или тод?» [4] — получил традиционную просьбу о помиловании: «Брот».
На этом — по закону — драка кончалась, можно было продолжать мирные игры. Но непредвиденно появился двенадцатилетний брат моего соперника и, нарушив кодекс дворовой чести, основательно меня вздул. Бороться с верзилой на голову выше было мне не по силам — оставалось канючить, растирая слезы грязными кулаками (на потеху друзьям-приятелям).
В это время во дворе появился отец. Я заревел в голос и радостно пожаловался:
— Папа, папа, меня побили! Он грозно сверкнул глазами.
— Кто?
— Вот этот здоровила, вот этот! — закричал я, счастливый.
Двенадцатилетнему моему обидчику надо было немедленно удрать, а он стал объяснять, что зачинщиком был я — он лишь защитил поверженного меньшого брата. Отец бесцеремонно сгреб его и отвесил по заду десяток шлепков, приговаривая:
— Ты брата защищаешь — думаешь, мой сын без защиты? У него тоже есть защитник, нападать на него не дам!
Побитый, рыдая, грозил пожаловаться своему папе — я хохотал и показывал ему язык. Но радость моя была непродолжительна.
Отец вдруг снял ремень и знаком подозвал меня. Подходил я со страхом — чувствовал, что хорошего не ждать. Если бы знал точно, что будет, — удрал бы.
Вокруг сгрудились мальчики и девочки — предвкушали зрелище. Отец пригнул мою голову, зажал ее между колен, стащил с меня штанишки и, выставив голый зад на толпу, громко объявил:
— Это тебе за то, что ты начал драться! — и пребольно выпорол.
Я рыдал не так от боли, как от обиды и стыда. Отец выпустил меня, позволил натянуть штаны и перевести дух. Я хотел было удрать, наивно полагая, что оскорбительная кара совершилась.
Но то было не наказание, а театральное действо. Отец срежессировал яркий спектакль — и не собирался завершать его раньше естественного финала. Он снова зажал мою голову между колен, снова оголил мой зад и вторично высек, так же громко объявив:
— А это тебе за то, что полез драться — и не победил, а дал себя побить.
Первую лупцовку встретили радостным хохотом и язвительными выкриками — вторую сопроводили лишь несколькими смешками. И снова наступил антракт, а не финал. Я плакал уже не от обиды — от боли. А еще больше — от страха: по лицу отца я видел, что представление не окончилось.
Третья порка была самой жестокой. Мальчишки молчали — кое-кто даже убежал. Голос отца был неумолим:
— Это тебе за то, что, побитый, ты не смолчал, а полез жаловаться!
У меня не хватало сил на слезы — я лишь судорожно икал и трясся. И штаны натянуть тоже не смог — отец сделал это сам.
Малыши, молчаливые, насмерть испуганные, разбежались по квартирам, как только отец выпустил мою голову. Он привел меня домой и похвастался бабушке, как хорошо поучил сына.
Бабушка уложила меня в кровать и побежала за мамой. Мама поставила мне градусник и устроила громкую ссору. Всласть нарыдавшись в подушку под родительскую перебранку, я уснул.
Кое-что из этого публичного поучения я усвоил — и на всю жизнь: лучше ни с кем не драться; если драться все-таки пришлось, нужно побеждать; а если победили тебя, то нечего жаловаться. Хоть какая, а — польза!
Вторая воспитательная акция физически была не столь жестока, но, пожалуй, не менее весома — если судить с точки зрения этики и житейской гносеологии.
Второй раз отец наглядно обучал меня в последний свой приезд в Одессу (это было перед началом гражданской войны, за несколько дней до окончательного разрыва с мамой). Я уже ходил в первый приготовительный класс гимназии и как-то принес домой пятерку по поведению. Надобно отметить: гимназия была лютеранской, там действовали немецкие оценки, пятерка равнялась нашей единице (а наша пятерка обозначалась единицей).