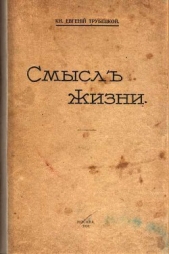Минувшее

Минувшее читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но вернемся к моим университетским годам. Я говорил, что занимался больше дома, чем в Университете. Это делал не я один, а и несколько моих родственников и друзей, поступивших в Университет одновременно или почти одновременно со мною. Это были мои двоюродные братья Котя Трубецкой (сын дяди Сережи, впоследствии знаменитый ученый-филолог, профессор Венского университета) и Дмитрий Самарин, а также мой друг Сережа Мансуров.
Все мы были сверстниками, у всех у нас были широкие научные интересы, но мы были совсем не единомышленны между собой, как говорится — «каждый молодец на свой образец». Мы занимались у себя по домам, но взаимное общение оплодотворяло а подталкивало мысль. Особенно много я общался с Сережей Мансуровым. Кроме того, конечно, на семинарах я сталкивался и с другими студентами-философами. Некоторое время я был даже товарищем председателя университетского студенческого философского общества. В этом Обществе читались доклады, и студенты общались с уже кончившими Университет и с профессорами.
Все это дало мне, конечно, безмерно больше того, что могли бы мне дать лекции.
В Университете я попал в среду «неокантианцев». В частности, тогда было сильно влияние так называемой «петербургской школы» профессора Когена. Кантианство стояло в центре наших университетских споров и разговоров.
С Сережей Мансуровым мы нередко касались вопросов религиозных. Он был неизменно тверд в своей православной церковности. Тогда он еще не помышлял сделаться священником, каковым он стал уже в эпоху большевизма.
Мои философские убеждения были гораздо менее определенны и складывались куда медленнее, чем политические.
Университетской «общественной деятельностью» я совершенно не занимался, не занимались ею и мои приятели и товарищи по научным занятиям. Многое, что делалось тогда в Университете людьми разных политических направлений, было мне несимпатично, а иногда даже противно. Для меня Университет был прежде всего не «общественное», а научное учреждение, и все, что отвлекало его от этой основной его цели, казалось мне вредным.
К самому Университету у меня нет того сильного и нежного чувства, какое мне приходилось наблюдать у некоторых представителей двух предшествующих поколений. Мне дороги университетские годы, но не столько сам Университет. Я храню о нем добрую память, но о Университетом меня связывает не столько личное чувство, как память моего отца и дяди, так сильно его любивших и так много для него сделавших. «Университетский энтузиазм» эпохи Станкевича или Грановского в наше время вообще уже не существовал. Однако духовное уничтожение Университета большевиками больно отзывается в моем сердце. Я болезненно помню, как большевики срывали — буква за буквой — надпись на нашей университетской церкви: «Свет Христов просвещает всех».
Погасив у себя Свет Христов, они загасили и всякий духовный свет!
СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
В университетские годы я много занимался наукой, но это не мешало мне также — в первые два с половиной года (1908—1910), когда я зимой жил в Москве,— жить и светской жизнью.
В самое первое время — очень недолго — меня привлекали даже визиты. Вчерашний гимназист, я не без внутренней гордости чувствовал себя «совсем большим», входя в студенческом сюртуке со шпагой в приемный день в какую-нибудь гостиную.
Очень редко, где в приемный день присутствовал сам хозяин дома. Обыкновенно ему при отъезде оставлялась визитная карточка. (Кстати, эта последняя должна была быть у светского человека обязательно гравированная, а не напечатанная. Визитную карточку со своим адресом оставлять даме было нельзя и тому подобное.)
Принимала — хозяйка, одна или с дочерьми. После того как я ей целовал ручку, она представляла меня тем дамам и мужчинам старшего поколения, которым я еще не был представлен. При этом моя фамилия часто дополнялась пояснительными словами: «сын Жени!» или:
«сын Верочки Щербатовой!», для самого старшего поколения еще прибавлялось: «внук князя Николая Петровича», или «князя Александра Алексеевича Щербатова». Это вызывало милое приветствиеянесколько слов воспоминаний: «Как же, как же... мы с вашим дедом...» Меня не только не обижало, как некоторых, такое «семейное ситуирование», но я его любил, отдавая этим дань «родовому» чувству.
Иногда во время визитов мне приходилось сидеть и разговаривать исключительно с представителями старшего поколения. При этом число дам всегда намного превышало число мужчин: последние всячески уклонялись от посещения приемных дней, предоставляя делать это своим женам.
Часто хозяйка, непринужденно приняв молодого человека, направляла его в другую гостиную, или в другой угол, где собирался вокруг выезжающей дочери дома кружок молодежи. Тут мужская и женская молодежь бывали обычно равночисленны. Такое отделение молодежи было новшеством: в семьях более консервативных светских традиций выезжающая дочь сидела недалеко от матери. Несмотря на мой консерватизм, я предпочитал новый порядок...
Надо было вести легкий и непринужденный разговор и уметь уйти не слишком рано и не слишком поздно. Мало кто впадал в первую крайность, но многие не умели уходить. Всего лучше это было делать, когда приезжали новые «визитеры».
Очень скоро — почти немедленно — визиты мне надоели, но известный минимум их был необходим: визиты праздничные, поздравительные, благодарственные (за приглашение) и т. п.
Особо стояли благодарственные визиты на следующий день после балов, вечеров или обедов («visites de digestion»). В этих случаях можно было наверное рассчитывать, что принят не будешь, и дело ограничивалось передачей швейцару загнутых карточек. Поэтому на такие визиты часто ездили даже не надев сюртука. Помню однако, как однажды с моим бальным сотоварищем, Мишей Голицыным («Симским»), случилась маленькая неприятность. Он подкатил к подъезду дома Клейнмихелей, чтобы загнуть там карточки, но, как нарочно, вслед за ним подъехали и сами хозяева. Обе стороны были смущены: Миша не мог загнуть своих карточек, а хозяева не могли сказаться отсутствующими, или сказать в лицо, что они «не принимают». Визит состоялся... и был сделан без сюртука! В те времена это было почти скандалом... Но изо всего бывают выходы и мы обычно оставляли, уезжая с вечера, загнутые заблаговременно карточки швейцару (при рубле), или один из нас, по очереди, возил карточки нескольких друзей: обычая рассылать или оставлять незагнутые карточки в Москве тогда не было. Если визиты мне скоро надоели, то нельзя сказать того же про вечера и балы. Они мне нравились, и я на них откровенно веселился.
В отношении балов и вообще московской светской жизни я должен заметить, что мне пришлось выезжать в эпоху ее заката. Мне посчастливилось еще захватить «вечернюю зарю» и видеть ее последние лучи, но непосредственно за этим она совсем угасла: на долю моего брата, который всего на два года моложе меня, уже почти ничего не осталось. Это случилось еще до войны 1914—1918 годов.
В мое время старая светская Москва уже сильно клонилась к упадку. Та светская жизнь, которая когда-то била в ней ключом, почти совсем замерла или переходила в купеческие салоны. Настоящий «Большой Свет» постепенно делался в России монополией Петербурга; московские семьи начали вывозить там своих дочерей. Но и светский Петербург, ввиду крайней Несветскости Двора при последнем царствовании, тоже переживал заметный упадок.
Если нельзя сравнивать пышность тех многих вечеров и немногих больших балов, на которых я присутствовал, с теми — прошлыми,— о которых я только слышал от старшего поколения, то все же и то, что я видел, кажется теперь какой-то сказкой.
Помню, например, большой бал у Новосильцевых в Щербатовском доме... Каждый бал имел, разумеется, свою индивидуальность, но они были все же похожи друг на друга.
Перед подъездом через тротуар разостлана широкая красная ковровая дорожка. Около подъезда специальный наряд полиции руководит движением подъезжающих экипажей и не дает сталпливаться глазеющим прохожим.