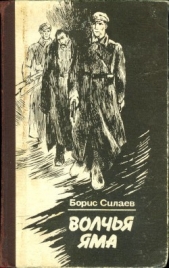После Шлиссельбурга

После Шлиссельбурга читать книгу онлайн
Третий том воспоминаний Веры Николаевны Фигнер
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Около Христофоровки в узком районе моих наблюдений было тихо. Но с разных концов уезда нет-нет да приходило смущающее известие, которое шло, как мелкая рябь от где-то брошенного в воду камня.
Рассказывали, что на границе Тетюшского и Буинского уездов, в имении Теренина, были «аграрные беспорядки»: крестьяне держали своего помещика в блокаде, не пуская никого ни к нему, ни от него, и принудили в одном имении «простить» крупную порубку, в другом — сдать крестьянам в аренду желанную им землю.
У купца Кривошеина крестьяне самовольно свезли к себе рожь с поля. Полиция советовала не противиться, а подать в суд: «он взыщет в лучшем виде».
В Барских Каратаях два крестьянина, арендовавшие 30 десятин земли, на которую метила вся крестьянская община, могли засеять их только под охраной полиции.
В Людоговку губернатор выслал роту солдат, потому что на выморочное имение помещика Цельшерта, перешедшее к дворянству, крестьяне претендовали, как на свое наследие, и объявили, что они скорее умрут, чем отдадут землю. Представителя дворянства они заставили убраться подобру-поздорову, отняли у него ключи, заколотили окна усадьбы, прекратили рубку леса…
В Тетюшах одно время царили страх и ужас, потому что местные рабочие грозили идти громить дома купцов, если на земляные работы по устройству спуска к Волге работа будет сдана не им, а вятичам. Конфликт был разрешен дипломатическим вмешательством исправника, который предложил разделить работу так, что внизу горы поставить местных рабочих, а наверху, где требовалась большая опытность, землекопов-вятичей.
Наконец в тех же Тетюшах на хлебной пристани произошла настоящая стачка: грузчики забастовали, требуя увеличения платы. Купцы не соглашались, но тот же дипломат-исправник предложил им уступить, и купцы подчинились.
Эти и другие факты были сами по себе мелки, но среди вечно покорного и смиренного населения производили сенсацию и все же свидетельствовали, что призрак, о котором Леонид Андреев повествует в «Сашке Жегулеве», что он неслышными стопами ходил в те годы по земле русской и сеял смуту и тревогу, все же не миновал и наш забытый край, и хоть мимолетно, но промелькнул и в нашем уезде.
Контраст между деревней и городом выступил особенно резко во время октябрьской забастовки и последовавшего за ней манифеста о свободах. В деревне не было затишья от прекращения железнодорожных и почтовых сообщений; не произошло застоя во всех делах. Железная дорога не пересекает уезда, а почтой деревня пользовалась в то время в совершенно незаметной мере, — таким образом никаких перемен в сношениях с внешним миром не произошло. Суд, банки, высшие и средние учебные заведения, из которых на улицы высыпала и прибавила шума учащаяся молодежь, — все это не в деревне, а в городах. Скопления развитых волнующихся рабочих в деревне нет: нет толпы — нервной, наэлектризованной слухами, опасениями, к чему-то готовой, к чему-то готовящейся; нет сходок, собраний и совещаний, где все, от мала до велика, от чиновников вплоть до институток, спешат выявить свои неудовольствия, нужды и требования: здесь — разъеденные людские атомы, не затронутые идейными влияниями и страстными исканиями. А потом, при разрешении кризиса — в городах общий вздох облегчения, крик радости. «Да здравствует свобода!» — раздается на улицах. «Да здравствует свобода!» — провозглашают столбцы газет. И люди взволнованы, чувствуют подъем, не могут усидеть дома и спешат, бегут к друзьям, к знакомым, на улицу, чтобы поделиться радостью и пожать руку, хотя бы незнакомому.
А в деревне — тихо и безлюдно. Тихо до забастовки, тихо во время ее, тихо и после.
Сестре, приехавшей ко мне из Нижнего и принесшей вести об ярких впечатлениях «дней свободы», и во сне грезились сцены, похожие на то, что происходило в Париже во время Великой французской революции: толпы народа, при ярком солнце заливающие площадь; сотни и тысячи мужчин и женщин, коленопреклоненных и воспевающих «Свободу»…
А я — в деревне, что могла видеть я во сне?
Когда я сообщила свои впечатления Е. К. Брешковской, неожиданно посетившей меня, она сказала, обращаясь к сестре:
— Увезите Верочку. Увезите скорей, — она возненавидела деревню.
Но я не возненавидела. После долгого отчуждения я всматривалась в окружающую действительность и видела, что нет одной России, а есть множество Россий, разнообразных, разноречивых, ушедших вперед и отсталых, подвижных и косных, и что нужна колоссальная работа нас всех, чтоб совершилось равнение умов и единение настроений.
Глава одиннадцатая
Переезд в Нижний
В каком тяжелом настроении я была перед приездом в Христофоровку сестры Евгении, всего лучше показывает недоконченное и не отосланное, случайно сохранившееся у меня письмо к М. Ю. Ашенбреннеру от 16 сентября 1905 г., выдержку из которого я приведу здесь.
«Мне здесь так не нравится, что я за это время много раз жалела, что допустила хлопотать о моем переводе. Если б не этот скверный, холодный ветер в Нёноксе — это он угнал меня оттуда! Моя жизнь здесь страшная чепуха, п. ч. отвычка от обыкновенной житейской обстановки и житейских отношений вскрывается здесь самым острым образом, и главное, я чувствую себя страшно одинокой; там не было так; там я могла сказать: «Придите!» — и хоть незнакомые или малознакомые друзья тотчас явились бы ко мне. Да они и шли ко мне без зова: все возвращавшиеся из ссылки искали меня и заходили, п. ч. через Нёноксу идет этап, и из Архангельска приезжали ко мне. Никогда в жизни не чувствовала я себя столь одинокой — разве, быть может, только перед арестом! А в Шлиссельбурге и говорить нечего! Разве было там одиночество, когда внизу были Новорусский и Лукашевич, сбоку Морозов, Антонов… А затем я теперь потеряла назначение в жизни. Когда мы жили, и после, когда были в тюрьме, у меня было назначение в жизни, а теперь я потеряла его. И мне кажется так ужасно, так ужасно жить без этого! В первые месяцы я так часто слышала возгласы, что мне выпало счастье выйти из тюрьмы в период общественного пробуждения, и действительно, личные впечатления вполне подтверждали это пробуждение. Но надежды с тех пор порядочно поблекли, а пульс жизни здесь совсем не чувствуется. Да если бы и сбылось все, о чем мечтают все русские люди, желающие свободы, ожили ли бы мы? Право, не знаю, чем объяснить, но я чувствую себя во всех отношениях менее бодрой и душевно здоровой, чем была в Шлиссельбурге».
Манифест 17 октября принес свободу моим старым товарищам по Шлиссельбургу: это сняло громадную тяжесть, обременявшую меня все время после освобождения из крепости. Моих друзей перевезли в Петропавловскую крепость, где на совместной прогулке они пережили неистовую радость от наступивших «свобод». Потом они рассеялись, кто куда, по родным семьям. А мне департамент сначала предложил заграничный паспорт, потом, раздумав, разрешил переехать из именья Куприяновых — Христофоровки — в Никифорово, именье брата, или, если хочу, в Нижний, в семью моей сестры Евгении Сажиной. Я выбрала последнее. Надзор двух стражников с меня был снят, и я в первый раз после Шлиссельбурга могла ехать с сестрой без «провожатых».
Перед рождеством мы выехали и по дороге заехали в Казань. Там я обратилась к специалисту по нервным болезням Даркшевичу; я не знала, сомневалась: смогу ли я выносить городскую жизнь, с ее шумом экипажей, людными улицами, обилием впечатлений? будет ли все это по силам моим расстроенным нервам? Профессор отнесся ко мне внимательно: я должна ехать в город; должна приучаться к жизни, а не бежать от нее. Но я не должна вмешиваться в жизнь, быть активной, но оставаться лишь наблюдателем, пассивно воспринимающим волнующие события. Только при таких условиях лет через пять я стану здоровым человеком.
— Также вы не должны писать, — продолжал он. — Быть может, общество и потеряет от того, что вы не напишете теперь своих воспоминаний, но вы не должны этого делать…
С этим напутствием, о котором волей-неволей я часто вспоминала и целесообразность которого на деле испытала, я отправилась из Казани в Нижний в сопровождении сестры.