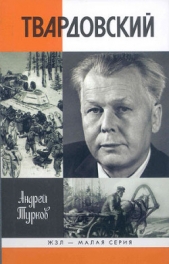Родина и чужбина

Родина и чужбина читать книгу онлайн
Воспоминания родного брата поэта Александра Твардовского. Раскулачивание, ссылка, плен, лагеря - в общем обычная жизнь в России 20 века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это исходило от отца, так он сам был воспитан. Возражать? Нет оснований. И брат повиновался: бросал писать, шел в кузницу. Молотил изо всех сил кувалдой, следил за каждым знаком отца, но все равно — думал явно о своем.
Александр всегда с нетерпением ждал почту. Ближайшее почтовое отделение было на станции Пересна — кратчайшим путем, через болота, от нас семь верст, но не в любое время года можно там пройти. Почтальону верхом на лошади приходилось добираться в наши места кружным путем через Лаговщину, Ивановское, Петрово, что увеличивало расстояние примерно вдвое. Он не разносил почту в каждый отдельный двор, а оставлял ее в определенном месте, на так называемой "остановке почты". Газеты и письма в наш адрес попадали в соседнюю деревню Селиба, в избу Покладовых или Ваське Усатому, куда мы ходили за ними сами. Это было недалеко — всего версты полторы-две. Приносить почту часто случалось мне. "Сбегай, Ванюшка, за почтой", — бывало, скажет Александр, и я отправлялся, хотя и не очень-то иной раз хотелось «сбегать». Но, поскольку сам отец тоже был любитель заглянуть в свежую газету и всегда выписывал и "Смоленскую деревню", и центральную «Бедноту», и журнал "Сам себе агроном", и кое-что для нас — "Юный товарищ", "Юный пионер", — отказываться было нельзя, так как все равно прикажет отец.
В тот период, хотя, кажется, не часто, но нет-нет да и появлялись в смоленских газетах стихи за подписью "А. Твардовский". Воспринималось это нами, детьми, как событие большого значения, но и все старшие в семье радовались, перечитывали публикацию, даже как-то дружнее, родственнее становились, и то, что наша фамилия печатно значилась в газете, казалось, придавало ей какое-то особое звучание. На следующий день я шел в школу с мыслью, что в классе только и будут говорить именно об этом — о напечатанном стихотворении брата. Но все было как прежде, и учитель Исидор Иванович Рубо ничего не говорил. Бывало очень обидно, хотелось закричать во весь голос: "Эх вы! Такое — не заметили!"
Наше пристрастное мнение о стихах брата создавалось, видимо, под влиянием отца. Присущая ему слабость — самомнение, — вероятно, передавалось и нам, о чем мы, конечно, не подозревали, хотя случалось слышать от матери, что "отца и хлебом не корми, только бы его величали да почитали". Она всегда осуждала его заносчивость и самодовольство, и по этой причине в отношениях между родителями бывали тягостные истории.
Сам Александр никогда не хвалился тем, что его стихи оказывались напечатанными. Кривился и одергивал того из нас, кто нескромно проболтнулся об этом зашедшему соседу или гостю, пусть и из родственников.
В это время он уже знал лично некоторых смоленских молодых поэтов, и ему было важнее слышать их мнение. Имена Дмитрия Осина, Сергея Фиксина, Николая Рыленкова, Василия Шурыгина, Ефрема Марьенкова, не говоря уже о Михаиле Васильевиче Исаковском, были нам знакомы. Ни одна литературная страница смоленских газет не оставалась у нас непрочитанной.
Стихотворение же Михаила Васильевича Исаковского «Хутора», по просьбе отца, Александр читал не один раз. Очень по душе пришлись в нашей семье и многие другие стихотворения М. В. Исаковского тех давних лет, и имя его произносилось у нас подчеркнуто уважительно, хотя тогда мы и духом не ведали, что он станет ближайшим другом нашего брата.
Шел 1927 год. Упоминавшийся некрасовский том продолжал занимать Александра еще более, чем прежде. "…Эта книга была огромным, значительнейшим событием тех лет моей жизни… — писал Александр Трифонович в 1946 году, — составляла для меня самую большую радость и гордость, основу моих ребяческих интересов и заветных мечтаний".
То, как он работал с книгой, уже не было похоже на обычное чтение — вся книга была ему знакома. Однажды я заметил, что он подолгу останавливает свое внимание на отдельных местах, там, где вместо слов были точки. С карандашом в руке, сосредоточившись и что-то обдумывая, он прямо на странице сделал приписку. Мне хотелось узнать, что он приписал, но, помня, как неодобрительно он относился ко всякому не ко времени нашему любопытству, я не посмел заглядывать. Когда же он куда-то отлучился, я поспешил найти то самое место в книге. Помню, что после некрасовских "Пусть они, эти баловни, пьют" карандашом было приписано по линии точек: "беззаботно портвейн драгоценный" и дата — 1927. Я не знал в точности, что такое портвейн, видимо, и Александр его ценность преувеличивал, но в целом приписка была уместна. Надо полагать, что "Заветная книга", как назвал ее сам Александр Трифонович, сохранилась, и было бы любопытно проверить, жива ли там приписка, да вообще перелистать эту книгу от начала и до конца.
В 1927 году я окончил четырехклассную Ляховскую школу и получил свидетельство и характеристику, выданные учителем Исидором Ивановичем Рубо. В течение учебного года Александр не оставлял меня без внимания, спрашивал о делах и успехах в школе и огорчался, когда не обнаруживал у меня пристрастия к чтению. То, что я старательно и добросовестно выполнял все задания, он считал недостаточным. Помню, он хотел, чтобы я прочитал "Капитанскую дочку" Пушкина, а больше всего желал, чтобы я сам проявлял интерес к книгам. Но если я и читал рекомендованные им произведения, то опять же не постигал их главной сути и на его вопросы отвечал весьма посредственно. Поэтому, когда я принес свидетельство, в котором значилось "окончил успешно", Александр сделал вид, будто сомневается в этом: "Слушай, Ваня! А не может ли тут быть чего-нибудь такого… гм-м… ну, короче: не купил ли ты этому самому Сидору бутылочку?" — и сам он здорово так хихикнул и, глядя на меня, выжидал, что же со мной будет? Я обиделся до слез — пришлось ему взять свои слова обратно, успокаивать меня. Конечно, это была чистая шутка, и я вспомнил о ней лишь потому, что шутить, а иногда и эдак остренько задеть, по-дружески, было в его натуре. Это не иначе как от отца. Уж отец-то мастак насчет такого! И еще была у него своя причина — моего учителя он почему-то очень недолюбливал.
В том же году сломали и перевезли на лошадях на станцию Пересну ляховский помещичий дворец, в котором учились братья и мне тоже довелось учиться одну зиму. В Пересне это здание было спешно собрано, но из трехэтажного, редкой красоты дворца получилась двухэтажная коробка: никаких украшений не восстановили, покраски тоже уже не делалось, но здание школы-семилетки все же было построено, той же осенью она открылась. Я хотел поступить в эту школу, по ходатайству Александра был допущен на приемные испытания, но моя робость испортила все дело: я стушевался, перепутал вопросы и форменным образом провалился. Так пропал у меня целый год учебы. До половины зимы был дома, делал все, что приходилось, чувствовал себя скверно, а во второй половине учебного года обратился к своему учителю в Ляховской школе и упросил его разрешить хоть изредка бывать на уроках, чтобы не забыть пройденного.