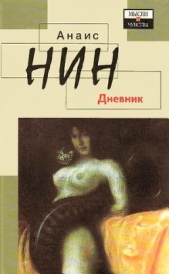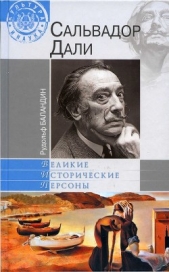Дневник одного гения (с илл.)
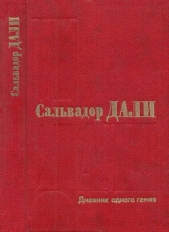
Дневник одного гения (с илл.) читать книгу онлайн
Настоящий дневник — памятник, воздвигнутый самому себе, в увековечение своей собственной славы. Текст отличается предельной искренностью и своеобразной сюрреалистической логикой. Это документ первостепенной важности о выдающемся художнике современности, написанный пером талантливого литератора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
О Сальвадор, твое обращение в рыбу, этот символ христианства, благодаря казни, учиненной над тобой мухами, было не чем иным, как причудливым, типично далианским способом отождествить себя с Христом, которого ты в тот момент писал!
Кончиком языка, раздраженного после столь многотрудного дня, я наконец-то сковыриваю всю болячку, не делая больше попыток отделять от нее по одной-единственной чешуйке. Одной рукой делая записи, я между большим и указательным пальцем другой с величайшими предосторожностями зажимаю свою болячку. Она довольно мягкая, но вздумай я согнуть ее пополам, и она наверняка сломается. Я подношу ее к носу и нюхаю. Никакого запаха. Погрузившись в задумчивость, я на мгновение оставляю ее на вздернутой к самому носу верхней губе, состроив при этом гримасу, в точности отражающую то состояние крайней опустошенности, в котором пребываю. Благословенная расслабленность охватывает все мои члены…
Я отодвигаюсь от стола. Волнуясь, как бы, чего доброго, не упала моя болячка, я перекладываю ее на стоящую у меня на коленях тарелку. Но это занятие ничуть не выводит меня из прострации, я продолжаю кривить рот, будто намереваюсь навечно застыть с этой гримасой на лице. К счастью, забота о том, как бы не потерять свою драгоценную болячку, выводит наконец меня из этого глубокого оцепенения. В панике я бросаюсь искать ее на тарелке, но она стала там лишь еще одним коричневым пятнышком, растворившись среди бесчисленных крошек поджаренного хлеба. Потом я вроде бы ее отыскиваю и беру двумя пальцами, чтобы напоследок еще немного с ней поразвлечься. Но тут мною овладевает ужасное подозрение: а вдруг это вовсе не моя болячка? Я испытываю непреодолимое желание поразмышлять. Здесь есть какая-то загадка, ведь это вполне может быть просто-напросто козявка, выпавшая у меня из носа. Да и так ли уж, в сущности, важно, та ли это самая болячка или нет, раз они все совершенно одинаковы по размеру и по виду и ничем не пахнут? Это рассуждение приводит меня в ярость, ведь, по сути дела, это все равно что признать, будто божественного Христа, которого я писал, распинаемый мухами, в действительности никогда не существовало!
Рот мой перекосился от бешенства, что при моей воле к власти вызвало кровотечение моей болячки. Длинная, овальная капля крови стекала мне на бороду.
Да, только так, истинно по-испански привык я скреплять свои чудачества! Кровью, как хотел того Ницше!
Через пятнадцать минут после первого завтрака я, как обычно, сую себе за ухо цветок жасмина и отправляюсь по имтимнейшим делам. Не успеваю я как следует усесться, как тут же испражняюсь, и причем почти без всякого запаха. Он настолько слаб, что его полностью перебивает аромат надушенной бумаги и веточки жасмина. Впрочем, это событие вполне можно было бы предсказать по блаженным и чрезвычайно сладостным снам истекшей ночи, всегда сулящим мне испражнения нежные и лишенные запаха. Сегодня они даже чище, чем обычно, если в данном случае вообще позволительно подобное определение. Я объясняю это только своим почти абсолютным аскетизмом, с ужасом и отвращением вспоминая, как испражнялся во времена своих мадридских дебошей с Лоркой и Бунюэлем, когда мне был двадцать один год. Если сравнивать это с сегодняшним днем, мои испражнения кажутся мне чем-то немыслимо позорным, чумным, лишенным всякой плавности, похожим на какие-то конвульсивные спазмы, порождающим мерзкие брызги, чем-то дьявольским, бахвальским, экзистенциалистским, обжигающим и кровавым. Сегодняшняя почти невесомая плавность заставила меня почти весь день думать о меде трудолюбивых пчел.
У меня была тетка, которую приводило в ужас все, что как-то связано с испражнениями. При одной только мысли, что она могла бы хоть чуть-чуть испортить воздух, глаза ее сразу же орошались слезами. Превыше всех своих достоинств она гордилась тем, что ни разу в своей жизни не пукнула. Теперь это уже не кажется мне таким нелепым мошенничеством. Должен сказать, что в периоды аскетизма, когда я веду интенсивную духовную жизнь, я и вправду почти никогда на пукаю. Часто встречающиеся в древних текстах утверждения, будто святые отшельники вообще не выделяли никаких экскрементов, представляются мне все более и более близкими к истине — особенно если принимать во внимание мысль Филиппа Ауреола Теофраста, достопочтенного Бомбаста фон Гогенгейма [17], утверждавшего, что рот — это не просто рот, а некое подобие желудка и если очень долго не глотая пережевывать пищу, а потом ее выплюнуть, то все равно можно насытиться. Отшельники живут, жуя и выплевывая коренья и кузнечиков. Все это одни слова да наивные иллюзии, будто они свои религиозные экстазы уже на земле питают воздухом небесным.
Необходимость глотать — как я уже давно отмечал в своих исследованиях по каннибализму [18] — соответствует, скорее, не потребности в питании, а совсем другой потребности, эмоционального и морального порядка.
Мы глотаем, стремясь до конца прочувствовать свое абсолютное слияние с любимым существом. Ведь глотаем же мы не жуя облатки. Теперь об антагонизме между жеванием и глотанием. Святой отшельник пытается эти две вещи разделить. Чтобы целиком отдаваться своей земной и жвачной (в философском смысле) роли, он предпочитает обходиться для поддержания жизни только одними челюстями, приберегая исключительно для Бога акт глотания.
Моя жизнь отрегулирована точно, как часы. В ней все совпадает. Не успел я закончить писать, как в назначенный срок появились со своими эскортами два визитера. Один из них Л. Л., издатель Дали героических барселонских времен, который сообщает мне (как, впрочем, думаю, и всем своим именитым друзьям), что приехал из Аргентины специально чтобы повидаться со мной, а второй — Пла. Появившись первым, Л. излагает мне цели своего визита. Он собирается опубликовать в Аргентине четыре новых книги — моих или обо мне.
1. Толстая книга Рамона Гомеша де ла Серна, для которой я обещаю дать несколько документов, неизданных и, разумеется, сногсшибательных.
2. Моя «Потаенная жизнь» [19], над которой работаю в настоящий момент.
3. «Скрытые лица» де ла Серна, которые он только что купил в Барселоне.
4. Мои загадочные рисунки, дабы сопроводить ими литературные тексты де ла Серна.
Этот тип просит у меня иллюстраций. Я же решаю, что, напротив, это он будет иллюстрировать мою собственную книгу.
Что же касается Пла, то он, с тех пор как появился, не устает повторять одну фразу, запомнившуюся ему с нашей последней встречи: «Когда-нибудь эти усы станут знаменитыми!» Затянувшийся обмен любезностями между ним и Л. Пытаясь положить этому конец, сообщаю, что Пла только что написал статью, где чрезвычайно проницательно подметил мои причуды. Он отвечает:
— Ты только расскажи мне что-нибудь еще, а статей я напишу сколько хочешь.
— Ты бы лучше написал обо мне книгу, ведь никто не сможет сделать это лучше тебя.
— Договорились!
— А я ее издам! — воскликнул Л. — Правда, Рамон уже заканчивает писать одну книгу о Дали.
— Но позволь, — возмутился Пла, — Рамон даже лично не знаком с Дали.
Внезапно мой дом заполнился друзьями Пла. Друзей у него не счесть, и описать их весьма трудно. У всех у них есть две характерные черты: они, как правило, наделены густыми бровями и всегда выглядят так, будто появились у меня на террасе, только что сорвавшись из какого-нибудь кафе, где провели лет десять кряду.
Провожая Пла, я говорю ему:
— А усы-то, похоже, и вправду станут знаменитыми! Ты только посмотри, и получаса не прошло, а мы уже решили издать целых пять книг, моих или обо мне! Моя стратегия уже принесла мне бесчисленные сочинения, посвященные моей персоне, а весь секрет в том, что мои антиницшеанские усы, словно башни Бургосского собора, всегда обращены в небо.