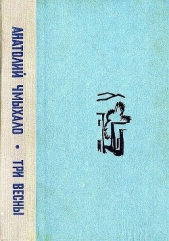Повести моей жизни. Том 2

Повести моей жизни. Том 2 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Боюсь, моя дорогая Верочка, что твоя радость по случаю прошлогодней посылки моей рукописи Бекетову слишком преждевременна. Я до сих пор не имею о ней никакого известия, и это меня так огорчает, что если б я не привык работать ради самой работы, как пчела, которая тащит мед и воск даже в развалившийся улей, то давно бы пришел в отчаяние и жил бы, как многие, день за днем, лишь бы сутки прочь. Хотя ты и пишешь в утешение, что «рассматривать и производить опыты надо время да время», но главная беда в том, что ему скоро 80 лет, и я даже не знаю, жив он теперь или нет, и если жив, то сохранил ли настолько бодрости или зрения, чтобы перечитать почти 500 страниц моей рукописи. Если б ты, Верочка, или Ниночка могли как-нибудь справиться о ней, то это была бы для меня самая лучшая рождественская елка будущей зимы.
Роман Сенкевича «Камо грядеши?», о котором ты спрашиваешь, я читал, и он мне понравился, хотя эпоха, которую он описывает, слишком отдалена от нас. Ее нравы и обычаи, а также склад ума действующих лиц во многом стали для нас совершенно чужды, а потому часто трудно войти в положение героев романа и прочувствовать этот роман так сильно, как могли бы прочувствовать талантливый рассказ из более близкой к нам эпохи. Возьмем, например, Петрония. Говорят, что он описан особенно хорошо, а между тем попробуй-ка войти в его душевное состояние! Поэтому и смерть его в середине романа не производит на читателя никакого впечатления.
Конечно, истинное назначение и истинная мера при оценке бытового романа должны заключаться в том, насколько верно он описывает жизнь и характеры данного времени. Когда роман написан действительно талантливо и жизнь довольно близка для нас, мы инстинктивно чувствуем в нем правду и искренность, и нам кажется иногда, что все это мы передумывали или переживали сами. Но, для того чтоб обладать такой силой и яркостью изображения, необходимо, чтобы автор сам много лет вращался в том мире, который нам изображает, и наблюдал его лично, а не по одним чужим рассказам. Всякий раз, когда он изменяет этому правилу, он неизбежно будет впадать в ряд более или менее грубых ошибок. Чтоб убедиться в этом, стоит только прочесть те части рассказа или повести даже у хороших иностранных писателей, где они переносят действие в страны, которые не посещали лично, например в Россию.
Возьмем хоть у Евгения Сю лучшее место в «Вечном жиде» — описание снежных пустынь Сибири на берегах Берингова пролива после пронесшейся над ними снежной метели, повалившей вековые ели и сосны. Для того, кто не имеет ясного представления о природе этих стран, это — чудное место; но оно теряет все свое обаяние для того, кто знает, что область северных лесов кончается за несколько сот верст до Берингова пролива, где господствуют тундры да моховые болота, а потому не может быть и вырванных с корнем вековых деревьев, о которых говорит Сю.
А о второстепенных писаниях уж и говорить нечего. В одном французском романе, принадлежащем перу небезызвестного писателя, вздумавшего перенести действие в Россию, одна глава начинается тем, как двое влюбленных сидели на берегу реки под тенью огромной клюквы (à l'ombre d'un grand klukwa). Для французов, слышавших только названия наших северных ягод, это место кажется особенно колоритно, но каково читать его нам? Конечно, у Сенкевича, который жил в Италии, не может быть таких грубых ошибок, особенно в описании природы. Но более тонкие и труднее поддающиеся анализу черты характеров и типов первых веков христианства — как их восстановить по тем отрывочным сведениям, которые дошли до нас через несколько рук, и притом нередко в противоречивом виде, или касаются только внешней стороны событий?
Даже самого языка древних римлян и греков мы, в сущности, не знаем. Прослушав несколько раз, как произносят иностранные слова люди, изучившие их по самоучителям или в одиночном заключении, через третьи руки, я пришел к полной уверенности, что если бы древние поэты — Овидий и Гораций — услыхали, как их торжественно декламируют в наших европейских школах (и притом каждый народ произносит на свой лад), то они прежде всего схватились бы за бока от неудержимого хохота.
Мой привет всем, кто меня помнит и любит!
Николай Морозов.
Милая, дорогая мамаша!
Каждый раз, как я начинаю писать вам свое полугодичное письмо, мне хочется представить себе вас через разделяющее нас пространство и через долгие годы разлуки такою, как вы теперь, в своей домашней обстановке, так знакомой и близкой мне по воспоминаниям детства и юности. И каждая фотографическая картинка, доходящая до меня из родного края, каждая группа близких лиц, расположившихся на крыльцах и балконах знакомой усадьбы, снова будят в моей душе картины нашей былой жизни вместе, и так хотелось бы в эти мгновения посетить родные места и увидать снова вас, моя дорогая, и всех остальных близких людей! И я действительно часто вижу вас, сестер и брата, но только не такими, как вы в настоящее время, а какими я вас видал много лет назад. Правда, что, рассматривая ваши фотографии, я давно привык к вам и в вашем современном виде и новой обстановке, и, пока бодрствую, я именно и представляю вас, какими вы есть по фотографиям, не исключая и племянников с племянницами, и узнал бы каждого при первой встрече; но стоит лишь немного задремать, и все мгновенно меняется! Вы, мама, сразу молодеете лет на тридцать и более, а брат и сестры обращаются в детей!
Мне грустно подумать, моя дорогая, что ваше зрение до такой степени ослабело. А то вы увидели бы, что многое из того, к чему мы с вами так привыкли в родном имении, сильно переменилось. Развалины староборкóвского дома, где вы прежде жили и откуда, как вы мне рассказывали когда-то, выскочила ночью из окна второго этажа и убежала цыганка, посаженная туда за воровство, уже совсем исчезли без следа, а старая липа, росшая в тамошнем маленьком садике, давно свалилась, так что, выйдя за угол нашего флигеля, никто уже не видит на горизонте ее круглой вершины.
Впрочем, что же мне говорить только о ваших переменах? Окружающая нас жизнь идет своим путем и понемногу накладывает отпечаток старины и на то, что я здесь видел новым в первые годы заточения. Все давно посерело и обросло лишайниками, да и меня самого не минула рука времени, и часто теперь приходится чинить себе то печень, то легкие, то сердце, то желудок. Однако, как это ни покажется удивительным для постороннего человека, я все-таки никак не могу представить себя пожилым человеком.
Из моей жизни как бы вырезаны начисто все впечатления, свойственные среднему возрасту, и оставлены лишь те, какими подарили меня молодые годы, а потому нет на мне и того отпечатка в манерах или характере, который накладывается долгой жизнью. Благодаря этому обстоятельству из меня, должно быть, вышло нечто очень странное. Готов бы бегать и играть с детьми, как равный с равными, и рассуждать с взрослыми о всевозможных отвлеченных предметах. Желчности же, раздражительности и нетерпимости к чужим мнениям, характеризующих утомленных жизнью людей, во мне нет даже и следов, так что разговоры или обыденные отношения со мною ни для кого не бывают в тягость.
Особенно обрадовало меня, дорогая моя мама, что в этом году у вас, по-видимому, не было никаких простуд или острых болезней. Будьте же и в будущем здоровы, а обо мне не беспокойтесь, мое здоровье не хуже, чем прежде, и за мою жизнь нет причин опасаться! Все время, какое позволяют силы, я по-прежнему посвящаю занятиям физико-математическими науками, хотя условия моей жизни стали страшно неблагоприятны для всякого умственного труда. За невозможностью разрабатывать теперь современные вопросы теоретической физики я привожу теперь в порядок запас материала, накопившегося в голове в прежние годы. Какими затруднениями ни было бы обставлено стремление человека работать для науки, но если он более тридцати лет только и думал о тех же самых предметах, то у него неизбежно накопится значительный материал и возникнет ряд идей и обобщений, которые могут привести к открытию очень важных законов природы, а эти открытия неизбежно вызвали бы при опытной проверке и практические применения, полезные для всего человечества.