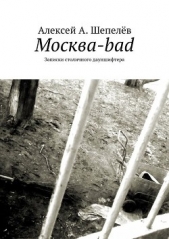Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая

Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая читать книгу онлайн
Филипп Филиппович Вигель (1786–1856) — происходил из обрусевших шведов и родился в семье генерала. Учился во французском пансионе в Москве. С 1800 года служил в разных ведомствах министерств иностранных дел, внутренних дел, финансов. Вице-губернатор Бессарабии (1824–26), градоначальник Керчи (1826–28), с 1829 года — директор Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий. В 1840 году вышел в отставку в чине тайного советника и жил попеременно в Москве и Петербурге.
Множество исторических лиц прошло перед Вигелем. Он помнил вступление на престол Павла, знал Николая Павловича ещё великим князем, видел семейство Е. Пугачева, соприкасался с масонами и мартинистами, посещал радения квакеров в Михайловском замке. В записках его проходят А. Кутайсов, князь А. Н. Голицын, поэт-министр Дмитриев, князь Багратион, И. Каподистрия, поколение Воронцовых, Раевских, Кочубеев. В Пензе, где в 1801–1809 гг. губернаторствовал его отец, он застал в качестве пензенского губернатора М. Сперанского, «как Наполеона на Эльбе», уже свергнутого и сдавшегося; при нём доживал свой век «на покое» Румянцев-Задунайский. Назначение Кутузова, все перипетии войны и мира, все слухи и сплетни об интригах и войне, немилость и ссылка Сперанского, первые смутные известия о смерти Александра, заговор декабристов — все это описано Вигелем в «Записках». Заканчиваются они кануном польского мятежа. Старосветский быт, дворянское чванство, старинное передвижение по убогим дорогам с приключениями и знакомствами в пути, служебные интриги — все это колоритно передано Вигелем в спокойной, неторопливой манере.
Издание 1891 года, текст приведён к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В школе, в запасном магазине драматических талантов, не нашлось ни одной девочки, которая бы могла заменить Болину. Попеременно их выставляли; одна только Карайкина, в замужестве Лебедева, могла некоторое время удержаться.
Не в театральной школе должен был образоваться великий талант для нашей оперы. В Петербурге был тогда один дом, в котором еженедельно собирались большие любители музыки и лучшие виртуозы. Дом этот сенатора Теплова, который имел и собственный славный оркестр, был совершенно музыкальный. Познакомившись в нём через сына Теплова, бывшего товарища моего во время путешествия по Сибири, я нередко посещал их вечера. На одном из них услышал я пение немочки, дочери придворного музыканта Фодора, и оно показалось мне писком. Мне непонятно было, как могли великие знатоки восхвалять его и в пророческом восторге судить ему славу. В этом деле и в это время, петербургская публика, видно, столько же смыслила как и я; ибо года три спустя, когда Фодор явилась на русской сцене, была она принята ею с удовольствием, не совсем преувеличенным. В большом обществе так много еще было тогда пристрастия ко всему французскому, что в нём обижались сравнениями, которые некоторые позволяли себе делать между нею и стареющею Филис. Не для того ли чтобы поднять себя в его мнении и несколько офранцузить себя, вышла она после за французского комического актера Менвиеля? Нет, ничто не помогло. Имея однако же в себе чувство превосходства своего, наконец, стала она требовать по крайней мере прибавки жалованья; ей и в этом отказали; тогда Россию она навсегда оставила. Вся Европа узнала ее потом, засыпала золотом и заглушила рукоплесканиями.
Гораздо более Фодор-Менвиель полюбилась семнадцатилетняя красотка, которая хотя после неё, но еще при ней показалась в опере. Это была Нимфодора, меньшая сестра трагической актрисы Семеновой. Голосок у неё был только что изрядный, за то быть милее её в игре было трудно. Красотою обе сестры были равны, только в родах её различествовали между собою. У старшей был греческий профиль и что-то великолепное в чертах; меньшая выполняла все условия русской красоты, белизну груди, полноту и румянец щек, живость в очах, тонкость и пристойную веселость в улыбке. Исключая небольшой разницы, и судьба сих сестер была одинакова. Обе соединились незаконным браком с действительными тайными советниками: старшая, Катерина, с князем Иваном Алексеевичем Гагариным, меньшая с графом Василием Валентиновичем Мусиным-Пушкиным-Брюсом. Одна старшая умела обратить его, наконец, в законный.
Ничего более о театре сказать я не имею. Читатель, может быть, скажет: «да кажется и этого не слишком ли много?» На это позволю я себе заметить ему, что большая половина этой главы посвящена была драматической литературе, а она в это время едва ли не составляла всю нашу словесность.
Итак об ней остается мне мало говорить, но много о множестве словесников, как о сделавшихся в это время известными, так и об оставшихся с тех пор неизвестными.
В последние годы царствования Екатерины Второй, между литературами двух столиц возникли какие-то несогласия; но не только до расколу, ни даже до сильных распрей дело не доходило. При Павле, в Москве, куда бо́льшая часть писателей удалилась, от столкновения несогласных начали взаимные неудовольствия умножаться и превращаться в нечто похожее на вражду. Исключая старого Хераскова, который в старой Москве доживал свой век, всех знаменитее были Дмитриев и Карамзин; с ними в тесной связи находился Тургенев, директор Университета, отец многореченного в сих Записках Тургенева, не писатель, но великий друг просвещения. В том же Университете, одним из трех кураторов был Павел Иванович Голенищев-Кутузов, человек умный и сведущий, но как стихотворец никем не замеченный, не хвалимый и не осуждаемый. Вероятно сие невнимание встревожило его самолюбие и возбудило досаду на двух сочинителей, более его счастливых. К нему, как бы в виде наперсника, пристал Шатров, поэт с большими дарованиями, которые преимущественно посвятил он переводу псалмов. Он усердно вдавался в мартинизм подобно Тургеневу и также как Карамзин в первой молодости был поддержан и поощряем Николаем Новиковым, главою мартинистов. Вот почему не понятно, как впоследствии сделался он врагом столь почтенных людей.
Под именем критики разумели тогда брань и поношение, мало знали ее, мало употребляли. Не знаю, правда ли, но меня уверяли потом неоднократно, будто который-то из сих господ (и полно, не оба ли) прибегли к другому средству нападения, к средству постыдному и жестокому, к ложному доносу на Карамзина: они обвиняли его в якобинизме, и перед кем же? Перед Павлом! Конечно, как все великодушные и неопытные юноши, в первоначальных порывах к добру, создавал он некогда утопии, веровал в свободу, в братскую любовь, в усовершенствование рода человеческого Когда началось его воспитание, в России, по примеру других европейских, даже самых деспотических государств, наставники воспитанникам всё указывали на блеск греческих республик, на величие римской; твердили, что с свободой их были неразлучны добродетели, счастье и слава, и что с её утратою они всего лишились; в веках ближе к нашему старались они возбуждать их восторг к Швейцарии и Вильгельму Телю, к Нидерландам и Эгмонту; наконец, Северная Америка с своими Вашингтоном и Франклином должна была осуществить для них прекрасные мечты их отрочества. С такими поучениями, с чистою и пылкою душой, в самой первой молодости Карамзин отправлен был путешествовать по Европе, которая тогда полна была надежд и ожиданий благополучнейших последствий от едва начавшейся Французской революции. Возвратившись, некоторое время не скрывал он своих благородных заблуждений, пока вид Польши, погибшей от и посреди безначалия, и Франции, политой кровью, не разочаровал его. Чад его давно прошел, но незабытый врагами послужил к его обвинению. Невежество или доброта людей, управлявших тогда делами, спасли его: в гнусном деле увидели они одно литературное соперничество и с пренебрежением бросили его, не доводя до Императора. В первобытной невинности наших правительственных лиц (не хуже, чем в преступном знании нынешних) так мало обращали внимания на то, что касалось до словесности, политики и религии, так мало вникали в настоящий смысл преподаваемых злонамерением правил (лишь не говори напрямки), что переводились, печатались и с дозволения цензуры продавались все забавные, веселые и богомерзкие романы Вольтера, Кандид, Белый Бык и Принцесса Вавилонская; за ними даже показался и Кум Матвей. Вот новое и еще сильнейшее доказательство этой беспечности или неведения. Со времени Екатерины, через всё царствование Павла и долго при Александре издавался в Москве неким Матвеем Гавриловичем Гавриловым Политический Журнал. Если где нибудь уцелели экземпляры его, то пусть заглянут в них и подивятся: там между прочим найдут целиком речи Мирабо, жирондистов и Робеспьера. Такая смелость должна бы была произвести, по крайней мере, удивление; никто не ведал про содержание журнала, и никто его ныне не помнит. Ленивые цензоры с рассеянностью пропускали его номера, а название политического пугало и отталкивало праздных тогда и невежественных москвичей; малое же число читателей, тайно принимающих живое участие в сохранении его, не спешило разглашениями. На это никто не доносил, и горе тому, кто бы осмелился сие сделать, искони старая Москва любила потворствовать всякого рода маленькому своеволию. Сам издатель, Гаврилов, неведомо откуда имевший средства к поддержанию себя и журнала своего, лично был знаком с немногими, чуждался сношений с известными писателями, выставлял свое имя и скрывал свою особу, и как будто любил мрак, в который старался погрузиться.
Также особняком, только не в тени, жил и писал тогда в Москве еще один сочинитель, князь Иван Михайлович Долгорукий, бывший при Екатерине Пензенским вице-губернатором. В творениях его было столько же ума, оригинальности и безобразия, как, говорят, и в наружности его; только о первых могу я судить, последней же никогда не видывал. Мне кажется, ему не довольно отдавали справедливости: между стихами его много таких замечательных по силе чувства, мысли и выражения, что не затверживая сохранил я их в памяти.