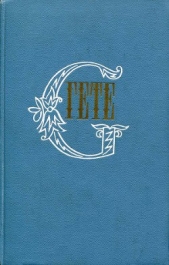Разговоры с Гете в последние годы его жизни
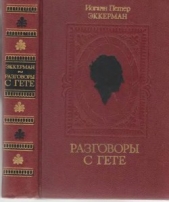
Разговоры с Гете в последние годы его жизни читать книгу онлайн
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Однажды под вечер, — начал он, — я прогуливался в дворцовом парке с добрым своим приятелем, как вдруг в конце аллеи мы заметили еще двоих из нашего круга; они шли и спокойно беседовали. Я не вправе назвать вам ни даму, ни кавалера, — впрочем, это дела не меняет. Итак, они шли и беспечно разговаривали, потом неожиданно склонились друг к другу и от всего сердца поцеловались, затем пошли дальше своей дорогой, продолжая беседовать как ни в чем не бывало. «Вы видели? — воскликнул мой друг. — Уж не обманули ли меня мои глаза? — «Да, я видел, — спокойно отвечал я, — но все равно не верю».
Говорили о метаморфозе растения, точнее — об учении Декандоля о симметрии, которое Гёте считает иллюзией.
— Природа, — сказал он, — не всякому дается. С большинством она обходится как лукавая девчонка, — привлекает нас всеми своими прелестями, но в минуту, когда мы хотим заключить ее в объятия и овладеть ею, ускользает из наших рук.
Сегодня в Бельведере состоялось собрание Общества поощрения земледелия, а также первая выставка плодов и промышленных изделий, оказавшаяся богаче, чем можно было предположить. Засим для многочисленных членов Общества был дан торжественный обед. И вдруг, к радостному удивлению всех собравшихся, вошел Гёте. Пробыв некоторое время среди гостей, он стал с видимым интересом рассматривать выставку. Его приход произвел наилучшее впечатление, в первую очередь на тех, кто никогда его не видел.
Провел часок с Гёте в самых разнообразных разговорах, коснувшись, наконец, Сорэ.
— На этих днях, — сказал Гёте, — я прочитал премилое его стихотворение, вернее, трилогию, первые две части которой носят радостный сельский характер, последняя же, названная им «Полночь», болезненно-сумрачный. «Полночь» превосходно удалась ему.
В ней доподлинно ощущаешь веяние ночи, почти как у Рембрандта, в чьих картинах ты словно бы вдыхаешь ночной воздух. Виктор Гюго тоже разрабатывал сходные сюжеты, но далеко не так удачно. В ночных сценах этого, бесспорно, значительного писателя ночная тьма отсутствует, скорее наоборот, все видно отчетливо и ясно, как днем, а ночь кажется выдуманной. Сорэ в своей «Полночи», конечно, превзошел прославленного Виктора Гюго.
Мне было приятно слышать эту похвалу Сорэ, и я решил как можно скорее прочитать трилогию.
— Наша литература, — сказал я, — почему-то бедна трилогиями.
— Этой формой, — отвечал Гёте, — наши современники пользуются очень редко. Дело в том, что для трилогии надо подыскать сюжет, естественно разделяющийся на три части, и притом так, чтобы первая являлась своего рода экспозицией, во второй происходила бы катастрофа, а в третьей наступала примиряющая развязка. Мои стихотворения о юноше и мельничихе удовлетворяют всем этим требованиям, однако когда я писал их, я и не помышлял о трилогии. «Пария» — тоже законченная трилогия, но этот цикл был уже и задуман, и обработан как трилогия. И напротив, моя так называемая «Трилогия страсти» поначалу вовсе не должна была стать трилогией, но мало-помалу — и, я бы сказал, случайно — сделалась ею. Вы ведь знаете, что я написал «Элегию» как самостоятельное стихотворение.
Затем меня посетила Шимановская, которая в то же самое лето была в Мариенбаде, и обворожительной своей игрой воскресила во мне те юношеские блаженные дни. Потому и строфы, посвященные этой моей подруге, выдержаны в размере и ритме «Элегии» и, сливаясь с нею, как бы образуют ее примиряющую развязку. Позднее Вейган затеял новое издание моего «Вертера» и попросил у меня предисловие, что и дало мне повод написать стихотворение «К. Вертеру». А так как в сердце у меня еще тлели угольки былой страсти, то оно, как бы само собой, сложилось в интродукцию к «Элегии». Вот оно и вышло, что все три стихотворения, ныне соединенные в одно и пронизанные той же любовью и болью, непреднамеренно сложились в «Трилогию страсти».
Я советовал Сорэ писать еще трилогии, и лучше всего таким образом, как я вам только что рассказал. Не надо ему подыскивать особый материал для трилогии; лучше выбрать из своего солидного запаса неопубликованных стихотворений какую-нибудь вещицу позначительнее и присочинить к ней своего рода интродукцию и примиряющую развязку, но непременно сохраняя очевидные пробелы между всеми тремя частями. Таким образом он куда легче достигнет цели, и ему не придется слишком много думать, что, как известно и как утверждает Мейер, дело очень нелегкое.
Далее мы заговорили о Гюго, решив, что чрезмерная плодовитость наносит серьезный ущерб его таланту.
— Невозможно, чтобы человек не стал писать хуже и не загубил бы даже прекраснейший талант, — сказал Гёте, — если у него хватает удали за один год сочинить две трагедии и большой роман, к тому же он работает, видимо, лишь из желания сколотить себе огромный капитал. Я не браню его ни за стремление разбогатеть, ни за старанье немедленно стяжать себе славу. Но если он уповает на прочную жизнь в грядущих поколениях, то ему следует подумать о том, чтобы меньше писать и больше трудиться.
Засим Гёте стал подробно разбирать «Марион де Лорм», силясь объяснить мне, что сюжет здесь дает материал разве что на один, правда, интересный и подлинно трагический акт, но автор из второстепенных соображений не устоял против искушения растянуть пьесу на пять длиннейших актов.
— Из всего этого мы все же извлекли некоторую пользу, — добавил Гёте, — убедились, как он талантлив и в воссоздании деталей, а это уже, конечно, немало.
1832
Мой друг Тёпфер из Женевы прислал несколько новых тетрадей с рисунками пером и акварелями. В большинстве это виды Италии и Швейцарии, запечатленные им во время пешего странствия по этим странам. Гёте был так поражен красотой этих зарисовок, и в первую очередь акварелей, что сказал:
— Я словно бы вижу творения прославленного Лори.
Я заметил, что это отнюдь не лучшее из того, что сделал Тёпфер, и что он, конечно, пришлет вещи, еще более совершенные.
— Не знаю, чего вам еще надо, — отвечал Гёте, — что может быть лучше! И какое имеет значение, если это даже окажется так. Когда художник достиг определенного уровня совершенства, то довольно безразлично, удалось ли ему одно произведение несколько лучше, чем другое. Знаток в каждом из них увидит руку мастера, всю полноту его дарования и средства, им применяемые.
Я послал Гёте портрет Дюмона, гравированный в Англии, который, по-видимому, очень его заинтересовал.
— Я не раз рассматривал портрет этого почтенного человека, — сказал Гёте, когда я вечером зашел к нему. — Сначала Дюмон показался мне неприятным, — впрочем, я приписал это особенностям работы художника, который, пожалуй, слишком уж резко и жестко выгравировал его черты. Но чем дольше я вглядывался в это в высшей степени оригинальное лицо, тем вернее исчезала всякая жесткость — и из темноты фона проглядывало прекрасное выражение спокойствия, доброты и одухотворенной мягкости, характерное для человека умного, благожелательного, пекущегося о всеобщем благе и потому умиротворяюще действующего на тех, кто созерцает его.
Продолжили разговор о Дюмоне и его мемуарах, главным образом касающихся Мирабо, где он открывает нам различные источники, которыми тот столь умело пользовался, и называет множество высокоодаренных людей, которых он сумел заставить служить своим целям и отдавать силы его делу.
— Я не знаю книги более поучительной, чем эти «Мемуары», — сказал Гёте, — они дают нам возможность заглянуть в самые потайные уголки той эпохи, и «чудо Мирабо» становится естественным, причем герой не утрачивает ни единой черточки своего величия. Но тут на сцену выступают новейшие рецензенты французских журналов, которые на этот счет придерживаются несколько иной точки зрения. Эти славные ребята полагают, что автор мемуаров задумал очернить их Мирабо, разоблачая тайну его сверхчеловеческой деятельности и пытаясь приписать другим людям часть великих заслуг, до сих пор числившихся за одним Мирабо.