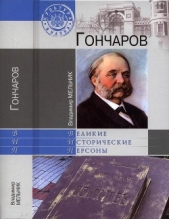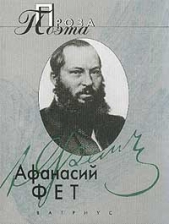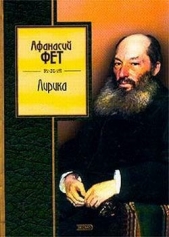Воспоминания

Воспоминания читать книгу онлайн
В книгу «Воспоминания» вошли мемуары А.А. Фета («Ранние годы моей жизни» и «Мои воспоминания»), которые рисуют яркую картину русской жизни на протяжении почти шести десятилетий и представляют собой источник для изучения жизненного и творческого пути А.А. Фета (1820–1892).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Какой это прекрасный табак вы курите? спросил Боткин.
— Это табак с моего огорода и собственного приготовления. Позвольте вам дать пригоршню для пробы.
Не стану утверждать, что к изысканной любезности Барыкова к Василию Петровичу примешивалось отчасти желание продать ему «Гремучий ключ». Помнится, что когда дома жена моя приготовила несколько папирос Василию Петровичу из крепкого Барыковского табаку, Боткин отозвался о них с похвалою.
Конечно, сейчас по получении Боткинского письма, я обратился с просьбою к Барыкову, — любезно уступить хотя Фунт табаку, какого Боткин достать в Петербурге не мог.
На это Барыков отвечал:
«Не имея в экономии продажного табаку, я очень горжусь предпочтением, оказываемым ему Василием Петровичем, которому прошу препроводить прилагаемых при этом четыре фунта; но так как у меня правило, что берущий табак обязан в то же время получить из моего питомника известное число деревьев, то вместе с сим прошу принять от меня 50 елок, простых и веймутовых сосен и лиственница».
Все эти подарки Барыкова со временем великолепно разрослись в Степановке, по аллее, ведущей к роще.
Письмо Л. Толстого:
17 ноября 1864.
Жду я и жена вас и Марью Петровну к 20-му. Неудобства к 20-му никакого не предвидится, а предвидится только великое удовольствие от вашего приезда. Так и велела сказать жена Марье Петровне.
Интересен мне очень «Заяц». Посмотрим, в состоянии ли будет все понять хотя не мой Сережа, а плетней мальчик. Еще интереснее велосипед {Я придумывал неудавшийся велосипед.}. Из вашего письма вижу, что вы бодры и весело деятельны. И я вам завидую. Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний, для того чтобы выбрать из них 1/1000000 — ужасно трудно. И этим я занят/ Попался мне на днях Беранже последний том. И я нашел там новое для меня: «Le bonheur». Я надеюсь, что вы его переведете.
Тоскую тоже от погоды. Дома же у меня все прекрасно, все здоровы. До свидания.
Ваш. Л. Толстой.
От Боткина:
С.-Петербург.
18 ноября 1864.
Сегодня получил для тебя письмо от Тургенева, которое при сем посылаю. Твое последнее письмо оставило меня в тревоге касательно твоей лихорадки. Вот с этой точки зрения мой взгляд на Степановку и вообще на деревню, — ее ладится с моими симпатиями к ней. Надеюсь, что ты получил мои письма, которые писал я уже около двух недель, и в которых взываю о вашем приезде сюда. Между тем Тургенев, возвестив, что он приедет сюда в январе, теперь, кажется, оставил это намерение; по крайней мере вот уже два письма я получил от него, и он ни слова более не упоминает о своем намерении приехать. Боже мой! какая дряблость, какое отсутствие всякого стержня, какая бедная усталость обнаруживается в письме, которое я посылаю.
Итак, буду ждать от вас известия о вашем выезде, если только твоя лихорадка не представляет ничего серьезного.
Вчера С-ий говорил мне, что от посредника ливонского уезда, Клушина, прислана бумага, извещающая о мировом. Но эта бумага вовсе не следует к нему, а в сенат, ибо министр юстиции не есть какой либо суд или присутственное место. Он об этом, кажется, уже отвечал Клушину.
Ваш В. Боткин.
От Тургенева:
Париж.
10 ноября 1864.
Нет, думаю я, эдак нельзя. Нельзя не писать да не писать к старому приятелю, не смотря на то, что он к тебе написал дважды. Да; но куда к нему адресоваться? Где он теперь? — В Москве, в Петербурге, в Отепановке, на реке Тиме? И сам ты где находишься? В спальне гувернантки твоей дочери, в крохотной: квартирке, в Париже, куда ты прискакал на несколько дней из Бадена! И теперь полночь, и на дворе скрипит и бормочет осенний дождь, и где-то в отдаленьи пьяный ревет… И притом что ты ему скажешь, этому старому приятелю? Что ты толстеешь, сопишь, холодеешь, ничего не делаешь, да и мало интересуешься наконец всем, что творится на земном шаре? Разве все это старому приятелю не известно? Да, но все-таки, пока живешь, нельзя не давать о себе вести, нельзя и не желать узнать, что, мол, делают другие, товарищи-бурлаки, впряженные в ту же лямку. Согласен: ну вот я и даю весть, ну вот я и стараюсь узнать, что поделывает товарищ-бурлак. Все так; но к чему цинизм тона и даже некоторая неопрятность выражения? Благо бы ты начитался новейших продуктов отечественной литературы; но ведь до тебя о ней доходят только редкие слухи, в виде внезапных отрыжек. А тут кстати Кожанчиков по поводу книжной торговли пишет, что омерзению русской публики к русской литературе нет границ, что денег ни у кого нет, и что всякие дела совершенно стали. Денег нет, а ты строишь себе в Бадене дом во вкусе Лудовика XIII-го и явно намереваешься провести остаток дней своих в этом здании! Да, конечно; и я даже надеюсь, что старые приятели когда-нибудь завернут ко мне, и достанется мне на долю великое удовольствие подчивать их киршвассером и аффенталером, — все это в том предположении, что вся штука не лопнет, и дом во вкусе Лудовика XIII-го не окажется преждевременной развалиной. А было бы жаль; потому что, надо сознаться, хорошо живется в Бадене: милые люди, милая природа, охота славная… Но однако как ты неправильно и беспорядочно пишешь, точно лирический поэт, у которого сосет под ложечкой. Ты пьян что ли? Нет, но мне спать хочется. А потому спешу второпях заявить, что я дней через пять возвращаюсь в Баден, что мне надо туда писать, что я старого приятеля лобызаю в уста сахарные и в нос сизый и низко кланяюсь его жене. Vanitas vanitatum!
Ив. Тургенев.
Баден-Баден.
28 ноября 1864.
Любезнейший Афан. Афан., вчера, вернувшись из Парижа, куда я ездил дней на десять, я нашел здесь ваше письмо из Степановки с стихотворением на мое имя. Нечего и говорить, что печатание этого стихотворения ничего кроме удовольствия мне доставить не может. Но в нем есть один жестокий стишок, который нужно исправить: «В телесных недугах животворящий ключ»… по-русски говорится: нед_у_гах, а недуги отзываются чем-то очень семинарским, вроде д_о_быча. Есть еще два маленьких пятнышка: отчего «твой вздох» не долетает? — Во-первых, я здесь не вздыхаю; а во-вторых, — этот стих не вытекает из предыдущего. Потом почему: лишь здесь? Стало быть надо понять, что только в Степановке вы желаете умереть, а в других местах желаете больше жить? — В таком случае всем почитателям вашего таланта следует молить судьбу, чтобы она разлучила вас со Степановкой? — Но это сущие мелочи, а все стихотворение очень мило и кроме того обрадовало меня известием, что у вас деревья разрослись «зеленым хороводом». Также очень приятно было узнать, что ваш процесс кончился мировою. Я написал вам на днях довольно сумасбродное письмо на имя Василия Великого, или Блаженного, или Блажного, проживающего в Питере на Караванной улице. Получили ли вы его? Черкните в ответ строчки две: я хотя и очень и телом, и душой отстал от России, но русские старые друзья остались мне дороги по-прежнему. Сегодняшнее письмо я адресую в Москву для большей верности. Поклонитесь от меня вашей милой жене — я здесь останусь до 8 января. Дружески жму вам руку.
Ив. Тургенев.
Толстой писал в конце ноября 1864 г:
Все сбиваюсь, сбиваюсь писать вам, любезный друг Афанасий Афанасьевич и откладываю, оттого что хочется много написать. А кроме многого надо написать малое нужное. Бот что: получив ваше письмо, мы ахнули.
Вот как он хорошо про собачий воротник, проеденный молью, говорит {Когда-то Толстые смеялись моему шуточному изображению приезда небогатых помещиков в театр с лакеем, у которого собачий воротник на ливрее, очевидно, сильно пострадал от моли.}, а едет таки в Москву.
Я, как более опытный человек, не удивился и не ахнул. Одно, что нас обоих занимает. это то, когда вы едете в Москву? и главное когда вы будете у нас? Надеемся, что поездка в Москву не изменит плана погостить у нас. Мы вас обоих еще раз оба очень об этом просим. Мы сами едем в Москву после праздников, т. е. в половине января и пробудем до Февраля. Когда же вы будете у нас: до или после? Пожалуйста напишите. Что вы поделываете? Как хозяйство? Не пишете ли что? У нас все хорошо. Дети и жена здоровы. Хозяйством я перед вами похвастаюсь, когда вы приедете. И я довольно много написал нынешнюю осень своего романа. «Ars longa vita brevis», — думаю я всякий день. Коли можно бы было успеть 1/100 долю исполнить того, что понимаешь, но выходит только 1/10000 часть. Все-таки это сознание, что могу, — составляет счастье нашего брата. Вы знаете это чувство. Я нынешний год с особенною силой его испытываю. Ну и прощайте! Обнимаю вас, кланяюсь вашей жене. Напишите же пожалуйста, когда наверное вы будете у нас. Мы хотим вас поместить получше, чтобы вы подольше у нас погостили. Не говорите: ничего не нужное и т. п. — вы лишите нас огромного удовольствия, на которое мы с осени рассчитывали, — подольше побыть с вами. У нас теперь гости: сестра с дочерьми, на праздник приедут Д-ы и Феты, и всем будет хорошо, ежели вы напишите наверное.
Л. Толстой.