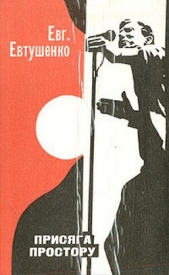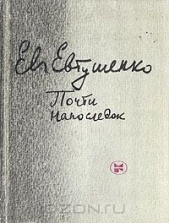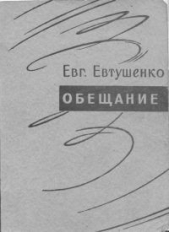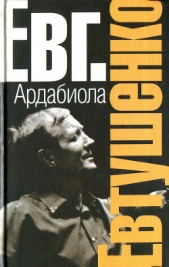Евтушенко: Love story
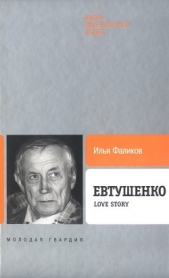
Евтушенко: Love story читать книгу онлайн
Поэт Евгений Евтушенко, завоевавший мировую известность полвека тому, равнодушием не обижен по сей день — одних восхищает, других изумляет, третьих раздражает: «Я разный — я натруженный и праздный. Я целе- и нецелесообразный…» Многие его строки вошли в поговорки («Поэт в России — больше, чем поэт», «Пришли иные времена. Взошли иные имена», «Как ни крутите, ни вертите, но существует Нефертити…» и т. д. и т. д.), многие песни на его слова считаются народными («Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую…», «Бежит река, в тумане тает…»), по многим произведениям поставлены спектакли, фильмы, да и сам он не чужд кинематографу как сценарист, актер и режиссер. Илья Фаликов, известный поэт, прозаик, эссеист, представляет на суд читателей рискованный и увлекательнейший труд, в котором пытается разгадать феномен под названием «Евтушенко». Книга эта — не юбилейный панегирик, не памфлет, не сухо изложенная биография. Это — эпический взгляд на мятежный XX век, отраженный, может быть, наиболее полно, выразительно и спорно как в творчестве, так и в самой жизни Евг. Евтушенко. Словом, перед вами, читатель, поэт как он есть — с его небывалой славой и «одиночеством, всех верностей верней», со всеми дружбами и разрывами, любовями и изменами, брачными союзами и их распадами… Биография продолжается!
Знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В повседневности лирик Соколов бывал разным. Вел себя просто, не закатывал глаз, не пел соловьем, но мефистофельская гримаса сарказма с оттенком брезгливости не была ему чужда. Ум его был отмечен холодком иронии.
Соколов редко писал прозу. Но случилось так, что как-то на досуге расщедрился — и не лишил себя удовольствия поиронизировать всласть, но по-соколовски изящно, не в лоб, в духе импресьона, присущего его стихам. Этот набросочный этюд, названный «Правда, правда и только правда», выглядит как нечто черновое, конспективное, но сказано всё:
Из В<ладимира> С<околова>
Женя сказал: «Как! У тебя нет часов?!» — Завел машину. Я по-дворницки придерживал одну половину ворот (чтобы не хлопнула по лимузину).
— Что тебе привезти из Москвы? Только не говори о соленых помидорах, ими забит весь подпол.
— Красных помидор…
— Само собой. Ну чего бы тебе хотелось: угрей, икры, воблы, семги, лососины? Ну что ты вообще любишь? Хочешь датского пива в банках? Неужели ты совсем ничего не любишь?
— Лососины…
— Ну а выпить? Что бы ты хотел выпить: джин, ром, «Наполеон», э-э…
(Чтобы не ударить лицом в грязь):
— «Скотч Виски».
— Отлично. Сигареты? «Кэмел», «Мальборо», «Вита Нова»? «Столичные» у меня на столе…
— Ну, этих, с ментолом…
— Прекрасно! Будет сделано.
Взмах рукой. Уехал.
К вечеру.
— Хочешь, я тебе коктейль сделаю? Да брось ты эту «Облепиху». Я ведь лучший мастер в Москве. (Задумался. Пауза.) Да ведь, пожалуй, и не только в Москве… Володя! Ты пил когда-нибудь джин с тоником? Только честно, пил? Вот погоди! Не открывай. Не открывай, я сам все открою.
Почему ты не разулся? Я тебе тапочки положил у дивана. Душ не забыл принять? А то у меня Петька иногда голову намочит…
Вот гляди: две пропорции джина, две — тоника, льда два квадратика… Т-а-ак. Или тебе три порции джина, одна — тоника?
Что это, что за тоник? А! Индийский. Ничего-ничего… Хороший тоник. Они тоже умеют. Так!.. Хочешь, я тебе две ягодки туда брошу? Тогда я себе брошу.
Пошли туда, где телевизор? — Думает, я увлекаюсь футболом. Глупости.
(Переходим туда, где телевизор.)
— Володь, по-моему, я всех уже окончательно запутал, а?
(Смеется, очень хорошо смеется. Как двадцать лет назад.)
— Почему без соломинки? Смотри-смотри! Вот это класс. Не важно — гол забит, не забит… Как это было!
Так вот, Никсон у меня спрашивает… А ты что, развелся? По-моему, ведь это у тебя какой-то кошмар был.
Да! Послушай, что я утром тебе написал.
(Взбегает наверх, сбегает обратно. Садится. Нежно смотрит на меня. Вздыхает.)
Слушай!
Владимиру Соколову.
Травка зеленеет, солнышко блестит.
Все во мне мертвеет…
(Читает стихотворение. В телевизоре орут: — Шайбу! Шайбу!.. — Выключает. Начинает сначала. Дочитывает… Вдруг замечаю, смахивает слезинку каким-то оперативным жестом… Я пальцами закрыл глаза.)
— Смотри, как быстро тает лед. Соломон! Соломон!
Пудель нехотя вбегает с выражением: — Ну что еще?
— Гулять, гулять, Монечка, гу-у-лять.
Дикий восторг.
— Володенька, только не плащ. Вот Галина телогрейка. Так. Соломон!.. Давай хлопнем на дорогу.
(Я хлопнул. Он забыл. Оказывается, крестик потерял.)
— Ну ничего, я его, наверное, на ветку повесил, когда утреннюю разминку делал. А ты занимаешься гимнастикой?
Утром.
За кашей «геркулес».
— Хочешь, я тебе мяса поджарю? Марья Семеновна, курица у нас есть? Вот правильно, правильно, бульончику, бульончику! Ты ведь в чашке любишь? Евгений Александрович все помнит, все! А тебе не кажется, что Рождественский окончательно уже, а?..
Ну почему ты ничего не любишь?
Я потрясен твоей книжкой. Мои стихи против Фета к тебе никакого отношения не имеют. Да ведь я там же и написал, что я не против Фета! Ты единственный поэт, которому я завидую… Ты теперь будешь кашу? Да, знаешь, что я Брежневу написал?.. А я, пожалуй, травку с крабами.
(Травку съел, а крабы, очевидно, как-то вылетели из головы.)
— Слушай! Ты умрешь со смеху! Когда я тебе красные помидоры на рынке выбирал… Кстати, учти, что я хиромант. Дай мне руку. Да нет, не правую. По правым цыганки гадают. Левую.
Гляди в окно.
(Держит мою руку.)
Двадцать пять лет тебе еще хватит?
(Себе он, правда, позавчера предназначил еще тридцать три, но у меня не может быть к нему черного чувства.)
— Теперь погляди на свою левую руку!
На моей левой руке — золотые часы «Полет».
— Теперь-то уж ты их не снимешь. Ну, слушай! Когда я тебе на рынке красные помидоры выбирал, все время какой-то жирный затылок передо мной болтался. Я влево — он влево, я вправо — он вправо. И верещал каким-то бабьим гнусным голосом.
Мне надоело, и знаешь, что я сделал? Хвать его под правое плечо. Он — вправо. А я слева вскользь у него по руке, и — часы в кармане.
Ведь последний-то раз я снимал часы в Нижнеудинске, в тысяча девятьсот сорок втором году…
Володя, ну почему ты ничего не ешь. Кашу хоть съел? Смотри, съем все помидоры. Знаешь, я что-то последнее время никак не могу остановиться…
— Тикают? Давай по банке датского пива? Марья Семеновна, где открывалка?
Нашла ведь старуха крестик, и знаешь где? В джинсах, в штанине, и как он мог туда завалиться? Ты суеверный? Галя тоже. И я… все больше и больше.
Ну конечно, Межиров идет, вот клянусь тебе, что приехал по делу.
(Когда я через несколько дней сидел на лавочке в ожидании электрички прелестным загородным утром — Женя еще с вечера уехал в Москву, твердо веря, что и я наутро уезжаю в Ялту, — обнаружил у себя в кармане одну из его авторучек. Чтобы не забыть, должен заметить, что я самодовольно ухмыльнулся: ведь это была не менее классическая кража.)
Датировано: Переделкино — Москва, июнь 72.
Далекий 1972-й — еще при Гале.
Пожалуй, особенно впечатляет евтушенковское привирание о дареных часах. Необходимость смикшировать широкий жест заведомой чепуховиной, дабы все это смотрелось легко, и весело, и необидно.
Соколовский этюд выглядит черновиком евтушенковского цикла стихов на тему их встречи:
У Соколова есть изумительная «Новоарбатская баллада» — редчайший в русской поэзии двухстопный ямб с дактилической и гипердактилической рифмовкой в таком сочетании. Рядом с «Новоарбатской» — стихотворение «Попробуй вытянуться…». У Евтушенко нечто похожее — «Церквушек маковки…» (вторая строфа и частями дальше), «Женщина и море». Сравним даты. «Попробуй вытянуться…» и «Новоарбатская баллада» — 1967-й. «Церквушек маковки…» — 1957-й, «Женщина и море» — 1960-й. Там есть некоторая разница ритмических рисунков и самого строфостроения, но общая картина одноприродна. Евтушенко называет Соколова учителем. Классический случай винокуровской формулы «Художник, воспитай ученика, / чтоб было у кого потом учиться».