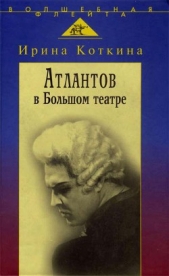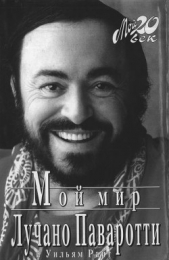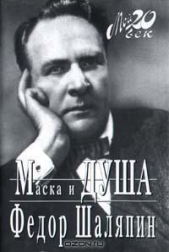Записки оперного певца
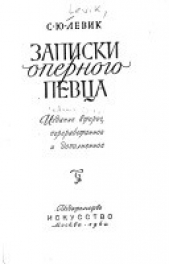
Записки оперного певца читать книгу онлайн
Сергей Юрьевич (Израиль Юлианович) Левик (16 [28] ноября 1883, Белая Церковь — 5 сентября 1967, Ленинград) — российский оперный певец-баритон, музыковед и переводчик с французского и немецкого языков.
С девяти лет жил в Бердичеве. С 1907 года обучался на Высших оперных и драматических курсах в Киеве. С 1909 года выступал на сцене — Народного дома Товарищества оперных артистов под управлением М. Кирикова и М. Циммермана (затем Н. Фигнера и А. Аксарина), Театре музыкальной драмы в Петрограде. Преподавал сценическое искусство в Ленинградской консерватории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Некоторая односторонность ее дарования при разнохарактерности лирических партий (шаловливое пение Тамары в первой картине «Демона», драматические жалобы в третьей; мечтательно-радостная ария Маргариты с жемчугом, драматизм последней картины) несколько обедняли некоторые эпизоды больших оперных партий. Не по лирическому голосу густая середина и отсюда некоторая тяжесть пассажей и трели, нехватка силы для некоторых драматических
<Стр. 631>
сцен не могли не сказаться. Голос Бриан никогда не кокетничал, не смеялся, не требовал, не угрожал. Олицетворение лирических настроений, он всегда мягко и задушевно рассказывал, необыкновенно тепло любил, искренне грустил и скромно горевал.
В силу всех этих особенностей Бриан в ТМД не имела соперниц в ролях Татьяны, Ксении, Микаэлы, Иоланты, Антонии, сестры Беатрисы, Лигии и некоторых других, в которых она оставила десятилетиями не стирающееся впечатление. В первых картинах «Онегина» она по своей мечтательности и глубоко пушкинской мягкости образа русской девушки была ближе всех других Татьян к идеалу Чайковского.
Наличие актерских способностей помогло Бриан создать галлерею прекрасных женских образов не только в ТМД, по и в других театрах, как, например, Панночки («Майская ночь») в дягилевских спектаклях в Париже и Лондоне, Марфы («Царская невеста») в Народном доме и т. д. В «Борисе Годунове» с учетом ее актерской выразительности был придуман специальный выход Ксении в момент смерти отца, и Бриан из этой небольшой в общем роли создала незабываемый шедевр.
Тончайшая звукопись Бриан осталась в моей памяти все же главным образом в связи с камерными концертами, для которых она при помощи А. К. Глазунова и М. А. Бихтера выбирала только высокохудожественный репертуар. Критик М. Браудо писал, что, когда слушаешь Бриан, чувствуешь, что «ее мастерство — мастерство, определяющее высоту русского камерного вокального искусства» («Жизнь искусства», 1922, № 35).
К исполнителям, привлекшим все симпатии зрителей, принадлежала Мария Самойловна Давыдова.
Голос Давыдовой был малоинтересен в своем основном тембре: плосковатом, лишенном металлического блеска, но и не матовом. Однако в этом ординарном и не очень звучном голосе было много красок, не ярких, но всегда наполненных содержанием.
Вряд ли Давыдова получила какую-нибудь серьезную вокальную школу. Скорее всего ее голос был от природы более или менее ровным и очень послушным для выражения разнообразных эмоций.
Ничего более противоречащего внешнему облику Ольги («Евгений Онегин»), чем лицо караимки Давыдовой,
<Стр. 632>
нельзя придумать, но она так правдиво интонировала, так просто, по-русски просто пела, что зритель с первых же слов преисполнялся к ней доверия и симпатии.
Ни с какой стороны эта низкорослая женщина не подходила к жаждущей власти, гордой шляхтянке Марине Мнишек. Но во всех интонациях ее пения слышались нотки то чванные, то властные, то льстивые, то презрительные, и слышались при всей простоте исполнения так явственно, что можно было только отмечать, как она одним этим заставляет зрителя и слушателя забывать самые, казалось бы, элементарные требования к внешности и голосу.
Но самое себя Давыдова превзошла в роли Кармен. Отличаясь хорошей, явственной дикцией, она умела в каждой фразе находить самое важное слово, самый нужный музыкальный акцент и, нисколько не мельча, построить на нем весь смысл фразы. Давыдова говорила — не говорила, пела — не пела, играла — не играла, но показывала такой цельный образ маленькой хищницы, делающей только то, что именно ей и именно в данную минуту хочется, что ее исполнение Кармен стало большой удачей спектакля в целом. Временами казалось, что не она вошла в спектакль, а весь спектакль пригнан к ней. Сцена «Сегидильи», квинтет второго акта, все начало третьего без Давыдовой определенно тускнели, хотя исполнялись другими по тому же плану и совсем не плохо. Л. А. Андреева-Дельмас также была достаточно рельефна в роли Кармен и даже получила некий памятник при жизни в виде стихов А. А. Блока. Но все же нужно сказать, что в этом «театре ансамбля», в «театре спектакля», который представлял собой ТМД, «Кармен» при Давыдовой казалась произведением монолитным, высеченным из каррарского мрамора. При других исполнительницах в мраморе проступали чуждые ему прожилки северного гранита.
Латышка Ада Гансовна Ребонэ была переведена из хора в солистки. В первом же году ей была поручена партия Нежаты («Садко»), в которой замечательно звучало ее грудное контральто. Развивалась она медленно, но неуклонно. Голос ее стал тянуться вверх, и с течением времени она перешла на меццо-сопрановый репертуар. Приобретя в ТМД большой певческий и артистический опыт, она после оптации сделала большую карьеру, с успехом выступая на самых требовательных сценах Западной Европы. Ее гастроли в двадцатых годах в Ленинградском академическом
<Стр. 633>
театре оперы и балета в роли Кармен также прошли с большим успехом.
Среди других меццо-сопрано при постановке «Бориса Годунова» выделилась эффектным исполнением партии Марины Мнишек Л. А. Дельмас. Голос ее ничем не блистал, но она имела хорошую дикцию и при хороших манерах и опыте смогла занять ответственное положение в театре.
Сразу выдвинулась на первое положение, увлекая слух и зрение в одинаковой степени, К. Ф. Мореншильд — обладательница прекрасного голоса—высокого меццо-сопрано, хорошей школы пения и благородного темперамента. Ученица Н. А. Ирецкой, она в 1915 году успешно окончила Петербургскую консерваторию и сразу заявила себя хорошей певицей и драматически способной актрисой. Джульетта («Сказки Гофмана»), Амнерис («Аида»), Весна («Снегурочка»), Марина («Борис Годунов») с первых же выступлений приобщили ее к лучшим артисткам театра.
Немалую роль в период создания ТМД играла прекрасная певица и опытная актриса Елизавета Федоровна Петренко, также ученица Н. А. Ирецкой. Служа в Мариинском театре, она не могла выступать в ТМД, но была его другом в самом лучшем смысле слова. С 1917 года она стала выступать в ТМД с обычным для себя успехом в операх «Аида», «Хованщина», «Пиковая дама», «Сорочинская ярмарка» и т. д., своим ярким исполнением внося в спектакли и направниковскую культуру, и блестки своего сценического таланта.
Человек большой и благородной души, она в последние годы жизни заняла ведущее положение среди лучших педагогов Московской консерватории.
Владимир Иванович Каравья пел с большим внешним успехом. Грек по национальности, он был ее типичным представителем: стройный, красивый, пластичный и темпераментный, он к тому же обладал довольно сильным тенором и был способен на горячую фразу. Голос его был неплохого тембра, но владел он им неважно. Кантиленой Каравья не владел вовсе, но внутреннее переживание ему было свойственно в большой мере. И вот он был одним из тех не очень музыкальных и малокультурных певцов, которые интуитивно воспринимают музыку и нередко достигают большой выразительности. Его Герман, Радамес и особенно Канио вызывали симпатию всего зала, включая
<Стр. 634>
самых требовательных музыкантов. Драматический репертуар ложился в первую очередь на его плечи еще и потому, что у него были отличные актерские способности.
Среди теноров Музыкальной драмы на первое место быстро выдвинулся Николай Николаевич Рождественский (1883—1938).
Мне довелось познакомиться с ним в несколько необычной, но весьма характерной для всего его артистического облика обстановке.
В бытность мою в Гельсингфорсе (осенью 1910 г.) я пел по пять-шесть дней подряд и поэтому после спектакля немедленно ложился спать. Однажды не успел я после «Демона» улечься, как в дверь номера раздался не то стук, не то царапанье. На вопрос, кто там, ответили:
— Прошу прощения. Разрешите на одну минуточку.
Голос показался мне искусственно высоким, тон искусственно просительным, произношение искусственно деликатным. Я решил, что это дурачится тенор В., и со словами: «Чего ты дурачишься?» — в одной сорочке пошел открыть дверь, но стремительно юркнул под одеяло: передо мной стоял морской офицер в парадной форме с иголочки.