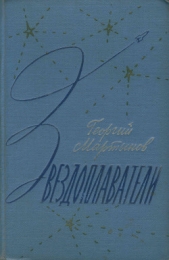Черные камни
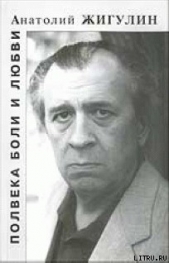
Черные камни читать книгу онлайн
Заметным событием в литературе первых лет перестройки стала автобиографическая повесть «Черные камни» (1988), предложившая подробный и спокойно-искренний, без налета сентиментальности или истерического надрыва, рассказ об истории «вины» юного Жигулина перед социалистическим государством, наказании за нее и долгом пути обретения истины. Эта повесть — важнейший, если не решающий, вклад поэта в развенчание пропагандистских мифов на мотив «все верили» и «никто не знал». Умер Анатолий Владимирович Жигулин в Москве 6 августа 2000 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мы все равно повесим тебя, мерзкий предатель!… по звонку в комнату ворвались надзиратели. Аркадий Чижов был бел лицом, как стена. Полковник Прижбытко протянул ему портсигар:
— Закурите. Отдохните немного. Вы молодец! Вы хорошо помогаете следствию. Ваш отец правильно сказал вам — после окончания следствия вы будете освобождены. Я еще раз подтверждаю это.
Затем, кивнув на Бориса, приказал надзирателю:
— Этому немедленно хороший пятый угол. И сразу же обратно — сюда.
Выражение «искать пятый угол» Борису было известно. Но в сочетании со словом «хороший» он слышал его впервые. Должен сказать читателю, что значительная и, может быть, даже большая часть уголовно-тюремного жаргона, в полной мере познанного в лагерях, была нам, подросткам военной поры, известна задолго до лагерной нашей одиссеи. Во время войны и позже Воронеж по части шпанско-уголовной мало уступал знаменитым «родителям», как их называют: Ростову-папе и Одессе-маме. И жаргонные слова бытовали и в нашей, школьной среде.
Бориса спустили вниз, во Внутреннюю подвальную тюрьму, где мы все обитали по разным камерам. Но камера, в которую его втолкнули теперь, была просторнее обычной одиночки. Холодно. Пол цементный.
Уже от первого неожиданного пинка сзади Борис упал, но поднялся. Он оказался в центре камеры. В четырех углах стояли дюжие надзиратели, обутые в тяжелые кирзовые сапоги. Четыре угла. Надо «искать пятый». Боря уже порядочно был измучен голодом, лишением сна, изнурительными ночными допросами.
Он выдержал, сопротивляясь и отбиваясь, несколько первых кулачных ударов. Жестоких и подлых — в лицо, в зубы, в затылок. Защищаться было трудно — ведь руки в наручниках. Каждый бил и ударом кулака отправлял его к другому. Четыре угла. А пятого нет. Негде укрыться. Ударом ногой в живот Борис был сбит с ног. Ему надели вторые наручники — на ноги — и начали бить деловито, ногами, норовя попасть в живот, в лицо, в пах. Борис молчал. Это их особенно бесило. Они увлеклись, и тогда старшин сказал:
— Ребята! Давайте полегче. Ведь полковник сказал — его еще допрашивать пади. Не калечить, не убивать!… По-хорошему надо.
От удара в затылок Борис потерял сознание. Принесли ведро ледяной воды.
Пока Борис приходит в себя, я расскажу читателю, как постепенно мы научитесь снижать вероятность гибели или очень тяжелой травмы при таком битье. Надо было свернуться в комок, подтянуть, лежа на левом боку, ноги к животу. Насколько возможно, защитить ногами мошонку и живот, руками, согнутыми в локтях, локтями — сердце и печень, ладонями рук — лицо, пальцами — виски. И как можно глубже втянуть голову в плечи. Это оптимальная поза при таком битье. Пусть поломают руки, ноги, перебьют пальцы — это не смертельно. Конечно, сильным ударом сапога могут и перебить позвоночник, и проломить череп. Но при битье по-хорошему это не делается. Да и вообще это не очень легко сделать: человеческий череп и позвоночник довольно крепки.
Во Внутренней тюрьме Воронежского областного Управления МГБ меня, как и Бориса, били ногами по-хорошему дважды. Вот тогда я начал харкать кровью.
Били Борю по-хорошему, но ни подняться, ни идти сам он не мог. Его, мокрого и окровавленного, буквально приволокли на допрос, посадили на стул. Белков дал ему сигарету. Борис сделал несколько глубоких затяжек, вытер носовым платком кровь с лица, выплюнул в сторону Чижова выбитый передний зуб, посмотрев на предателя и произнес, обращаясь к нему, первое, после того как его уволокли из комнаты, слово:
— Б…дь!
Аркаша волновался и был по-прежнему бледен. Пока Бориса били внизу, он успел выкурить несколько сигарет.
Полковник Прижбытко спросил Бориса:
— Вы не могли бы припомнить, был ли в вашей программе пункт о возможности прихода КПМ к власти с помощью вооруженного восстания? Был ли такой пункт?
— Не было такого пункта!
— Но вот ваш друг Аркадий Чижов утверждает, что такой пункт был.
— Какой он мне друг?! Он ваш друг. А вы — палачи! Полковник рассердился:
— За оскорбление следователей — десять суток строгого карцера!
Слова «строгий карцер» означают, вернее, означали в то время и в той тюрьме, следующее. Заключенного, раздетого до нижнего белья, помещают в узкий каменный мешок размером примерно два на три с половиной метра. Высоко наверху окошко с решеткой и без стекол — в любое время года. Зимой в карцере на полу и стопах — белый иней. Летом на цементный пол наливается вода, чтобы узник не мог спать даже на цементном полу. Единственная мебель в строгом карцере — выступающее торчком из цементного пола бревно-сиденье длиной около 25 сантиметров. Единственная пища — 200 граммов хлеба и кружка воды в сутки. Полагалась еще миска супа-баланды — через два дня на третий. Но ее, как правило, не давали.
В обычном карцере все было так же, но на ночь для спанья приносили деревянный щит в две неширокие доски. И давалась через два дня на третий упомянутая миска баланды.
В карцере обычном (когда следствие кончалось и заключенный наказывался лишь за нарушение тюремного режима: перестукивание и т. п.) давалась летняя одежда и обувь.
Я уже сказал, что, как и Борис, дважды пережил хороший пятый угол (с той лишь разницей, что при одном из моих «пятых углов» я был в нижнем белье — меня брали на «поиск пятого угла» из строгого карцера). Строгий карцер пережил я дважды: по 5 и 7 суток.
Наверное, читатель заметил, что я порою повторяюсь, рассказываю сбивчиво, не соблюдая хронологии, то забегая вперед, то снова возвращаясь к уже рассказанному. Это оттого, наверно, что вспоминать мне больно — я словно заново все переживаю и захлебываюсь в воспоминаниях.
Вот и сейчас со школьного сочинения Бориса я перескочил на описание его очной ставки с Чижовым. Этот эпизод, разумеется, тоже ярко характеризует большую силу воли Бориса, его необыкновенную личность.
Но все— таки закончу, подведу самые начальные итоги рассказа о Борисе Батуеве (в других главах я много еще буду говорить и о Борисе, и о Чижове, и о Киселеве, и других моих друзьях и врагах).
В глазах Бориса всегда была видна и доброта, и сила. Он никогда не кичился тем, что его отец — второй секретарь обкома. Единственный раз он припугнул этим оперативника Васю, когда его арестовывали.
Борис был среди нас самым начитанным, образованным, он был единственным в КПМ человеком, прочитавшим Библию. Читал он и Ницше, и Гегеля. Читал Маркса, Ленина, Сталина. Ему раньше всех нас стало известно «Письмо Ленина к съезду».
И, наконец, Борис был дальновидным человеком. Когда еще в 48-м году я предложил принять в КПМ моего младшего брата Вячеслава, Борис сказал:
— Нет, брата не надо, не надо Славку. Пусть хоть один сын у родителей останется…
Всю мудрость этого решения я полностью осознал только в тюрьме.
СЛЕДСТВИЕ
Это самая страшная часть моих воспоминаний, не для читателя — для меня. Читателям, возможно, покажутся более трагическими многие эпизоды лагерной моей жизни, но для меня следствие и Внутренняя тюрьма Воронежского Управления МГБ, где я провел одиннадцать месяцев в сырых подвалах и карцерах, где меня дважды избивали почти насмерть, — для меня это был самый настоящий ад. Как и для всех нас, кроме Аркадия Чижова.
Вернусь ко дню ареста. Через парадный вход меня ввели по гранитным ступеням в темно-серое, с черным гранитным цоколем здание Управления МГБ. Провели через вестибюль в какую-то комнату и предложили посидеть, подождать Оперативники ушли, оставив меня наедине с крупным пожилым человеком в военной форме. Погоны, как раньше называлось, унтер офицерские — старшина или сержант. Что-то в этом роде. Меня еще не обыскивали, а лишь «обхлопали» на предмет оружия. Но у меня во внутреннем левом кармане пиджака был макет нашей рукописной газеты «Спартак». Я попросился в уборную. Дверь в кабину надзиратель оставил открытой, но стоять напротив меня не стал. Под шум воды я порвал на мелкие кусочки макет и, дождавшись, когда бачок снова наполнился, спустил бумажные обрывки через унитаз в канализацию. Вернулись в вестибюль, и вскоре мой надзиратель получил неслышный мне приказ и сказал: