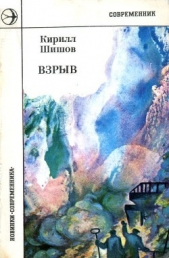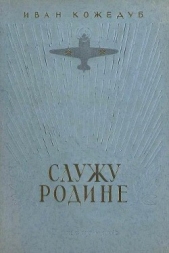Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни
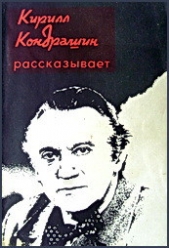
Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Дмитрий Борисович, нет ли у Вас чего для нашего радиокомитета?
Он подумал и сказал:
— Вот у меня есть музыка к спектаклю «Комедианты», а спектакль не идет. Попробую, сделаю сюитку для вас.
Он сделал сюиту, оркестровал ее на малый симфонический оркестр. Мы ее сыграли, и она стала потом в значительной степени популярной.
Помню Льва Шварца — талантливого композитора. Он специально для нас сочинил детскую сюиту и получил от Ленинградского радиокомитета гонорар. Это было, кроме всего прочего, расширение сферы занятости композиторов.
Помню еще Михаила Юдина — композитора-ленинградца, очень яркого и довольно забавного. Прежде всего, это был человек со страшной бородой. Он обожал писать всякие оратории, кантаты с использованием детского хора и больших хоров. Его прозвали «Бах-на-русских-хлебах». Его сочинения я реализовывал и с большим оркестром (у меня примерно одна передача в месяц шла с большим оркестром), и вот, с малым.
Оперные премьеры МАЛЕГОТа
В. Р. И это все совершалось параллельно с Вашей работой в Малом оперном театре и в сотрудничестве с Хайкиным?
К. К. В МАЛЕГОТе в это время очень ярко развернулся Борис Эммануилович Хайкин. В 1937–1938 годах он поставил четыре премьеры советских опер. Это даже для времен Самосуда неслыханное количество. Там были поставлены и опера Желобинского, и «Кола Брюньон» Кабалевского, и еще какой-то балет советский, и еще что-то — я точно сейчас не могу припомнить названия. Он привлек таких актеров, как Шлепянов, Серафиму Бирман, Бориса Зона для участия в постановке «Поднятой целины». Но выглядело это довольно забавно. Тогда Самосуд ставил уже «Поднятую целину» в Большом театре. Но параллельно, теперь подпольно, она готовилась в МАЛЕГОТе. Причем, Иван Дзержинский был ленинградцем, много лет связанным с МАЛЕГОТом, и давно по заданию Самосуда принес клавир и туда, и сюда, и все — официально! Затем каждый театр делал свою редакцию, Самосуд обладал большой изобретательностью в отношении новаций. Как только он придумывал что-то новое, то вызывал Дзержинского в Москву, сидел у него в номере несколько дней, дописывал какую-то сцену, что-то менял, а тот при этом делал себе тайком от Самосуда копию и, приехав в Ленинград, сейчас же подсовывал Хайкину. Премьеры шли подряд: сначала в Москве, а потом, на другой день, в Ленинграде (в один день решили все-таки не делать, композитор не мог сразу присутствовать на двух).
Одной из четырех премьер Хайкина, о которых я говорил, была опера «Мятеж» Ходжа-Эйнатова с режиссерской постановкой Бориса Зона. После этого сезона у Хайкина начался новый период — увлечение классикой, и это сказалось вообще на ориентации Малого театра. Появился целый ряд классических спектаклей. Несколько из них оказались очень удачными, оригинальными, а некоторые все-таки являлись слабой копией Кировского театра, потому что ни сцена, ни артистические возможности у МАЛЕГОТа не были такими, как там. К числу удачных классических образцов отношу «Бориса Годунова» в оригинальной редакции Мусоргского. Это было не так, как у Станиславского, а в окончательной версии со «Сценой у фонтана» и «Сценой под Кромами». Очень интересно. Слабый оркестр Мусоргского в небольшом театре звучал довольно прилично. Затем очень хорошо они со Смоличем перепоставили «Евгения Онегина». Получился другой спектакль, и дирижер смог освежить состав исполнителей. И этот спектакль проявил себя, во всяком случае, соперничал с Кировским театром очень успешно.
В. Р. А что ставили в это время Вы?
К. К. Мне была поручена новая постановка. А до этого реставрация оперы «Чио-Чио-сан» с Горяиновым, о котором я говорил. Но сказать об этом мне практически нечего, потому что для меня это все-таки старая работа. Но в 1939 году Хайкин поручил мне ставить оперу «Помпадуры» Пащенко. Это опера по Салтыкову-Щедрину. Либретто совершенно блестяще сделал Всеволод Рождественский. Постановщиком пригласили Шлепянова, который успешно поставил «Кола Брюньон». Ученик Мейерхольда и один из его активных продолжателей, он был одно время художником, потом режиссером театра Революции (теперь имени Маяковского). Затем Хайкин стал его приглашать в Ленинград, и он делал там постановки. Позднее он — режиссер Кировского театра.
Итак, «Помпадуры» ставил Шлепянов. Ему пришла в голову великолепная идея пригласить художником Черемных. Это — знаменитый карикатурист, один из основателей «Крокодила», большой знаток русской старины. И такое содружество Шлепянова, Рождественского и Черемных родило великолепный спектакль. Я о Пащенко умалчиваю, потому что музыка оказалась самым слабым местом. Это был композитор с развитой техникой, но, пожалуй, чересчур много сочиняющий. Он был лишен всякого критического чувства, работал без отсева. Эта опера — сплошь речитативная, с довольно жесткими гармониями. Там были, конечно, и небезынтересные моменты. Целиком спектакль получился блистательный. Великолепно передана атмосфера Салтыкова-Щедрина. Участвовали очень яркие молодые исполнители, и старшее поколение сумело себя показать. Спектакль прогремел в Ленинграде вовсю. По-моему, появилось 20 или 25 рецензий во всех печатных органах Ленинграда, и ни одной отрицательной… Это можно считать первой моей самостоятельной работой.
В. Р. Не скажете ли Вы еще чуть о музыке «Помпадуров»? Неужели возможно опере иметь успех только за счет постановки и либретто?
К. К. Надо сказать, что Пащенко, будучи человеком пожилым, очень боялся консерваторов. Он буквально в каждом такте менял размеры. Причем выбирал почему-то самые некратные, и все это делалось довольно непрактично. Вот, скажем, играет оркестр и потом поет голос, но размер укладывался, каким бы сложным он ни был. А вот когда оркестр молчит, а голос поет свободный речитатив то на одиннадцать, то на восемь, — здесь неоправданно, ведь оркестру надо считать паузы — это и неудобно, и непрактично. Я, по молодой нахальности, взял и переписал партитуру, введя то, что метрически удобно и переделал слишком путаные места. Там, где оркестр молчит, я откладывал определенное количество тактов — все знали, что певец поет свободно и ему не надо отсчитывать одиннадцать или семь — все укладывается и в четыре четверти. Иначе говоря, я сделал немножечко практичней. Композитор слегка поворчал, но потом с этим согласился, и конфликта никакого не было. Соллертинский пришел в безумный восторг от этого спектакля, стал одним из его апологетов и давал блестящие отзывы.
Я еще вспомнил из его злого остроумия: когда исполнялась третья симфония Желобинского в Ленинградской филармонии, то в антракте Соллертинский довольно зло заметил: «Это сочинение — вода, в которой всполоснут ночной горшок Рахманинова…»
В. Р. Значит, судьба у этого спектакля была счастливой?
К. К. Не совсем. В 1940 году в Москве проходила Ленинградская декада, в числе других отправился и Малый оперный театр. Мы все ожидали, что «Помпадуры» тоже поедут, потому что это был один из ярких спектаклей. Но его не взяли — побоялись, дескать, это — достаточно жесткая музыка. Что можно было ждать после соответствующих статей и нападок на Малый оперный театр? Но балет «Светлый ручей» и опера «Леди Макбет…» были там реализованы, а «Помпадуры» побоялись повезти. Стратегически жизненный расчет оказался верным. Театр был обласкан и весь засыпан орденами. И как тут опять не вспомнить Соллертинского; когда кто-то позволил себе покритиковать МАЛЕГОТ после возвращения, он сказал: «Вы кладете ложку дегтя в бочку с орденами».
В. Р. Ну, а Вы как дирижер того спектакля не пытались его защитить?
К. К. Пытался. Вспоминаю, что к тому времени я был членом партии, нет — кандидатом. Тогда кандидатский стаж продолжался два года. Одним из рекомендующих меня в партию была Рождественская, вторым — Хайкин. И вот уже после того как театр вернулся из Москвы, я позволил себе на партийном собрании покритиковать руководство за то, что не взяли «Помпадуры», это во-первых, а во-вторых, за некоторые странные награды и еще какие-то нелепости. На меня сильно обиделся тогда Хайкин, и у нас началась ссора. Я это страшно переживал, потому что для меня он был кумиром. Ему я очень обязан и образованием, и вообще своей дирижерской судьбой. Он ведь меня рекомендовал в театр Немировича и взял в Ленинград. Но дело, видимо, не в том, что я выступал на собрании довольно откровенно и смело. Наверное, кто-то ему что-то передал в искаженном виде, потому что при встрече он сказал: «Вы интриган и склочник, я с Вами ничего не хочу иметь…» — «Почему?» — «Нет, я не желаю с Вами разговаривать». Мы с ним были в ссоре два года, а помирились, когда началась война и стало не до личных распрей. Я очень переживал этот разрыв, но должен к чести Хайкина сказать, что на моем положении и на количестве работы это никак не отразилось. Я дирижировал очень много, и когда мне чего-то хотелось, я высказывал пожелания и сразу получал возможность дирижировать спектаклем. Подлинных причин своей обиды он мне так и не сказал… Какая-то болезненная ревность, может быть, имела место. Не знаю, возможно, кто-то сказал, что, мол, Кондрашин считает, что Вы недостаточно хороший дирижер, — я так предполагаю. Хотя ничего такого не должно было быть, и он для меня являлся образцом дирижера…