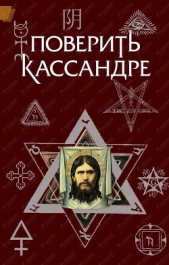Между двух революций. Книга 3

Между двух революций. Книга 3 читать книгу онлайн
«Между двух революций» — третья книга мемуарно-автобиографической трилогии Андрея Белого. Перед читателем проходят «силуэты» множества лиц, с которыми писатель встречался в Москве и Петербурге, в Мюнхене и Париже в 1905–1912 годах. Интересны зарисовки Блока и Брюсова, Чулкова и Ремизова, Серова, Жана Жореса, Коммиссаржевской и многих других.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не нюх, а — животекущая интуиция мысли, опередившей слова; у Чулкова слова — пароходище, пыхтящий колесами, выволакивающий на буксире от него отставшую лодочку; жест Мейерхольда — моторная лодка, срывающая с места: баржи идей.
Он хватался за лоб (нога — вперед, спиной — к полу, а нос — в потолок); то жердью руки (носом — в пол), как рапирой, метал в собеседника, вскочив и выгибая спину; то являл собой от пят до кончика носа вопросительный знак, поставленный над всеми догмами, во всем усомнясь, чтобы пуститься по комнате — шаг, пауза, шаг, пауза — с разрешением по-своему всех вопросов:
— «Вот так и устроим!»
Руки — в карманы: носом — в столовую пепельницу, — шаг, пауза: хвать рукой пепельницу:
— «Что это такое?»
И пепельницу — к носу, повертывает у носа:
— «Ее бы на сцену».
Он, взгорбясь, морщиною лба рассекал пополам — все рутины:
— «Так?» — взгляд на нас: стойка, вынюхиванье наших мыслей об этом.
Я помню, что начал он нам объяснять, как надо прогонять по сцене толпу, вскакивая и полуприседая на стуле с подгибом ноги под себя.
— «Вы же все забываете, что, когда пьете чай, в окне — тот, этот: идет, идут; следуют тексту автора, а автор забыл посмотреть, что происходит за окнами; за окнами улица, — вскочил и выбросил руки вперед и назад, — там — идут», — вздернул плечи: шаг, два; и — пауза: и поворот носа из-за спины:
— «Один, другой, третий; за окнами — идут: понимаете?»
И — шаг: в угол; и — поворот к нам; и — шаг из угла.
— «Они — пошли!»
И — ходит: и мы — за ним.
— «Вот! Это и надо показывать… Ведь — покажем? А?»
Трепок по спине: чихает шуткой, сухой и длинный.
Мне памятна встреча с В. Э. у Чулкова, с которым уже имели беседы о новом театре; 29 В. И. Иванов указывал: этот новый театр еще пока — театр импровизаций; скоро я возил Иванова к Блоку: иметь разговор о таком театре; Иванов впоследствии привел к Блоку Чулкова, который свел последнего с Мейерхольдом; 30 скоро — всерьез говорили о новом театре; он возник через год (театр Коммиссаржевской: с Мейерхольдом во главе) 31.
Рыжеусый, румяный, умеренный, умница Бакст был противоположность Чулкова и Мейерхольда; он отказался меня писать просто; 32 ему нужно было, чтобы я был оживлен: до экстаза; этот экстаз хотел он, приколоть, как бабочку булавкою, к своему полотну; для этого он с собой приводил из «Мира искусства» пронырливого Нувеля, съевшего десять собак по части умения оживлять: прикладыванием «вопросов искусства», как скальпеля, к обнаженному нерву; для «оживления» сажалась и Гиппиус; от этого я начинал страдать до раскрытия зубного нерва, хватаясь за щеку; лицо оживлялось гримасами орангутанга: гримасами боли; а хищный тигр Бакст, вспыхивая глазами, подкрадывался к ним, схватываясь за кисть; после каждого сеанса я выносил ощущение: Бакст сломал челюсть; так я и вышел: со сломанной челюстью; мое позорище (по Баксту — «шедевр») поздней вывесили на выставке «Мир искусства»; и Сергей Яблоновский из «Русского слова» вскричал: «Стоит взглянуть на портрет, чтобы понять, что за птица Андрей Белый». Портрет кричал о том, что я декадент; хорошо, что он скоро куда-то канул; 33 вторая, более известная репродукция меня Бакстом агитировала за то, что я не нервнобольной, а усатый мужчина 34.
Однажды, войдя в гостиную Мережковских, — увидел я: полуприсев в воздухе, улыбалась мне довольно высокая и очень широкая, светловолосая, голубоглазая и гладколицая дама с головой, показавшейся очень огромной, с глазами тоже очень огромными; и тут же понял: она не стояла, — сидела на диване; а когда встала, то оказалась очень высокой, а не довольно высокой и только довольно широкой, а не очень широкой; это была Серафима Павловна Ремизова, супруга писателя.
Рядом с ней сидел ее муж с короткими ножками, едва достающими до пола, с туловищем ребенка в коричневом пиджачке, переломленном огромной сутулиной, с которой спадал темный плед; огромная в спину вдавленная голова, прижатая подбородком к крахмалу, являла собой сплошной лоб, глядящий морщинами, да до ужаса вставшие космы; смятое под ним придаток-личико являло б застывшее выражение ужаса, если бы не глазок: выскочив над очком, он лукавил; носчонок был пуговка; кривились губки под понуро висящими вниз усами туранца; бородка — клинушком; щеки — выбриты; обнищавший туранец, некогда торговец ковров, явившийся из песков Гоби шаманствовать по квартирам, — вот первое впечатление.
Гиппиус рукою с лорнеткою соединила нас в воздухе:
— «Боря, — Алексей Михайлович! Алексей Михайлович, — Боря!»
Ремизов встал с дивана и, приговаривая, засеменил на меня; он выставил руку, совсем неожиданно сделав козу из пальцев:
— «А вот она — коза, коза!»
Но, подойдя, он серьезно и строго мне подал холодную лапку:
— «Алексей Ремизов».
И, встав на цыпочки, под подбородок, блеснул очком:
— «А я-то уже вот как вас знаю».
С тех пор автор романа «Пруд» 35 высунут мне из-за каждой спины каждого посетителя журфиксов Розанова, Бердяева, Вячеслава Иванова; вот Бердяев, сотрясаясь тиком, обрывает речь и жадно хватает воздух дрожащими пальцами; Ремизов, выставись из-за него, — мне блистает очком; 36 и делает «козу»; а вот он, — сутуленький, маленький, — в том же свисающем с плеча пледике (ему холодно), выбравши жертвой великолепноглавого Вячеслава Иванова, — таскается за ивановской фалдой; куда тот, — туда этот; пальцем показывает на фалду:
— «У Вячеслава Иваныча — нос в табаке… У Вячеслава Иваныча — нос в табаке…»
Это тонкий намек на какое-то «толстое» обстоятельство: 37 экивоки, смешочки писателя, взявшего на себя в этом обществе роль Эзопа, — всегда не случайны: не то — безобидны, не то — очень злы; и он сам не то — добренький, не то — злой; не то — прост, не то — хитрая «бестия»; он ко мне пристает; и я жалуюсь на него Гиппиус.
Та — меня успокаивать:
— «Что вы, Боря? Алексей-то Михайлыч? Да это — умнейший, честнейший, серьезнейший человек, видящий насквозь каждого; коли он „юродит“ — так из ума. Что вынес он в заточеньи? 38 К нему привязался садист жандарм, за что-то взбесившийся; он насильно гнал Ремизова из камеры, заставляя будто бы свободно прогуливаться по городу; а товарищи по заключению удивлялись: „Ремизов на свободе!“ Жандарм даже таскал его насильно с собою в театр; и перед всем городом оказывал ему знаки внимания; все для того, чтоб прошел слух: Ремизов — провокатор… А — тяжелое детство, — вечная нищета эта! Тень пережитого — в больном юродничанье; это — маска боли его».
Когда ближе узнал я большого писателя, первые ж строчки которого встретил со вздрогом, то я его оценил и человечески полюбил; не раз придется мне говорить о нем; если я подаю на этих страницах шарж, — в этом повинны мои тогдашние восприятия и та атмосфера, в которой мы встретились.
В дни восстания
Серафима Павловна Ремизова дружила с Гиппиус; от нее и услышал: Савинков, глава боевых эсеров, руководил бомбой Каляева; голова его оценена, а он живет в Питере, тайно посещая Ремизовых 39 и жалуясь им на галлюцинацию: тень Каляева-де являлась к нему; его мучает скепсис, и он не верит в свой путь, увлекаясь творениями Мережковского; он ищет религии, могущей ему оправдать терроризм; из слов Ремизовой Савинков конца 1905 года рисуется так, как мною изображен террорист; [См. роман «Петербург» 40] Ремизова передала ему разговор о нем, и он хотел бы тайно явиться к Д. С. Мережковскому; воображение Гиппиус разыгралось; но Мережковский, пугаясь полиции и держа курс на Струве, этого не допускал, углубляя дебат: убить — нужно, а — нельзя; нельзя, а — нужно.