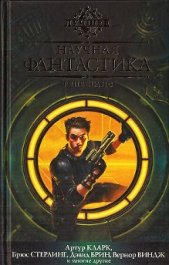Мой отец Соломон Михоэлс

Мой отец Соломон Михоэлс читать книгу онлайн
Первый в истории Государственный еврейский театр говорил на языке идиш. На языке И.-Л.Переца и Шолом-Алейхема, на языке героев восстаний гетто и партизанских лесов. Именно благодаря ему, доступному основной массе евреев России, Еврейский театр пользовался небывалой популярностью и любовью. Почти двадцать лет мой отец Соломон Михоэлс возглавлял этот театр. Он был душой, мозгом, нервом еврейской культуры России в сложную, мрачную эпоху средневековья двадцатого столетия. Я хочу рассказать о Михоэлсе-человеке, о том Михоэлсе, каким он был дома и каким его мало кто знал. Однако жизни вне театра - до определенной поры - ни у него, ни, соответственно, у нас не было. Поэтому даже самые первые мои воспоминания связаны с театром
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды, после какого‑то концерта, мы все вместе вышли на улицу. Стояла ранняя весна, к ночи подморозило и было страшно скользко. Кто‑то предложил твоей маме прокатиться по льду. Докатившись до середины, она вдруг поскользнулась и со всего размаху упала на спину. Испуг был ужасный. Больше всех паниковала, как всегда, Эльза. Сара же, от неловкости, что она испортила друзьям настроение, мужественно поднялась и заявила, что ей ничуть не больно.
Вскоре у нее обнаружили тяжелое почечное заболевание, то ли при падении она отбила себе почку, то ли падение спровоцировало болезнь, которая до этого где‑то дремала, так или иначе мама заболела и болезнь оказалась неизлечимой».
Это все, что мне запомнилось из рассказов Етхен в те страшные дни. Конечно, были среди ее многочисленных рассказов и веселые, и смешные, и забавные. Но наша память — странный фильтр. Она отбирает лишь то, что соответствует нашему состоянию в данный момент.
Мама мне запомнилась тихой, доброй и очень грустной. Наверное потому, что тот период, который способна охватить моя память, был самым тяжелым в ее недолгой жизни.
Я так и не знаю точно, в каком году поженились мои родители, но знаю, до чего они были духовно близки друг другу. Мама принимала участие во всех начинаниях отца, поддерживала его, когда он, еще неуверенный в себе и своих способностях, решил связать себя с театром.
Не знаю, как складывались их отношения, но по собственному опыту знаю, что жизнь с таким человеком, как мой отец, не могла быть легкой. Он не выносил и намека на размеренность и порядок, которые, как правило, составляют основу домашнего быта. Как говорила Эля: «Соломон Михайлович — самый неподходящий для семьи человек». Понятие» семьи» для отца было связано, в первую очередь, не с очагом, а с традицией.
Вопреки» зову времени» — уничтожать и разрушать все созданные веками понятия и обычаи, отец, воспитанный в среде, где традиция чтилась и оберегалась, испытывал потребность поддерживать ее в собственном доме. Так, при уже назревающем разладе в семье, он неизменно приходил домой обедать, после чего ложился» соснуть на часок». Мы с Ниной нетерпеливо ждали его пробуждения, ибо за ним следовала увлекательнейшая, обязательная игра в прятки. Никакие уговоры мамы и Эли не могли заставить нас идти спать, хотя, другой раз, традиционный» семейный обед» мог быть и в семь, и в восемь вечера. Но хотя детям и вредно» возбуждаться перед сном», игра в прятки, как и обед, как и послеобеденный сон, была традицией, которую нельзя нарушать.
Я не исключаю, что соблюдение этого почти что религиозного обряда» обед — сон — игра», при той сложной ситуации, которая сложилась в ту пору в нашей семье, было продиктовано пусть неосознанным, суеверным чувством, что» традиция охраняет».
Для нас же с Ниной, в той сумрачной неуютной обстановке, в которой протекало наше детство, эти вечерние праздничные минуты, сохранились в памяти, как нечто незыблемое, прочное и светлое. Остальное время в доме царила напряженная, тяжелая атмосфера. Все реже заливалась своим заразительным смехом мама, участились истерические припадки у Эли. В их разговорах появилось новое, незнакомое мне до сих пор имя — Чечик. Произносилось оно шепотом, что настораживало и пугало.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
В 1924 году была ликвидирована еврейская театральная студия в Киеве — Культурлига. Небольшая группа актеров перебралась из Киева в Москву и была принята в наш театр. Среди них была пара людей, муж и жена, он — Давид Чечик, она — Женя Левитас, которым суждено было сыграть роковую роль в жизни нашей семьи. Оказавшись рядом с Михоэлсом в одной из гастрольных поездок, Чечик начал с того, что взял на себя мелкие бытовые заботы, в которых отец никогда ничего не смыслил, развлекал его занятными историями, потешался над самим собой, словом, исполнял обязанности шута при короле, а кончил тем, что… уступил ему свою жену Женю.
Блестящая личность, обаяние и талант молодого актера привлекали к Михоэлсу внимание не только крупнейших деятелей искусства того времени, но и многих женщин, жаждавших купаться в лучах его славы. Однако лишь одна из них смела посягнуть на святость семьи. Это была бывшая актриса Культурлиги, происходившая из провинциальной мещанской семьи киевских торговцев, Евгения Максимовна Левитас.
Мама же, мягкая и скромная до робости, не принадлежала к тому сорту женщин, которые будут бороться до последнего, чтобы в критической ситуации удержать собственного мужа.
Случилось так, что в 1969 году ко мне попал маленький сборник стихов старшего маминого брата, Михаила Львовича Кантора, вышедший в Париже на русском языке. Дядя Миша имел юридическое образование, но призванием его была поэзия и философия. В 1921 году он покинул Россию, проделав весь путь русского эмигранта — сначала Берлин, затем Париж. Много лет он сотрудничал в литературных журналах с Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Адамовичем и другими. Одно из стихотворений в сборничке, который по его просьбе передали мне, я хочу привести здесь для характеристики моей мамы, да и не только мамы, а всего клана Канторов.
«О себе не говори, лучше о себе не помни, ты на свете избери уголок, да поукромней. Все, что знаешь — знай, но прячь. Никуда спешить не надо. Пусть несется мимо вскачь обезумевшее стадо лицемеров и рвачей за фортуною в погоне. Ты не с ними. Ты — ничей, тихий зритель на балконе».
Вот эти слова надо было бы золотыми буквами выбить у входа в семейный склеп Канторов, если бы таковой имелся.
Мама и была» тихим зрителем», которому оказалась не под силу вся эта жизнь с кулачными боями, сплетнями, выяснениями и объяснениями. Ее физическое состояние ухудшалось, сердце сдавало и она боялась операции, на которой настаивали врачи.
Папа же, насколько я понимаю, мучался от двойственности положения, испытывал непреходящее чувство вины, но окончательного решения не принимал. Мама умерла, оставаясь его официальной женой, с которой он, согласно еврейскому обряду, венчался у раввина.
В сложной ситуации нашей семьи театр, как это всегда бывает, разделился на два лагеря. С теми, кто был не на стороне мамы, я, разумеется, в детстве не встречалась, и никогда не видела Чечика, который появился у нас лишь после многих трагических событий и на многие годы оставался у нас в доме.
В нем уживалась лакейская услужливость и гусарская удаль. В театре его считали наушником, подозревали, что папа прислушивается к его мнению. Между тем, насколько я помню, папа никогда не следовал его, Чечикиным, советам.
Еще и сейчас мне приходится читать, что Чечик не только влиял на отца, но и был, якобы, причастен к» органам».
Чечик был трус, подхалим, картежник и порою пьяница, но никогда не принадлежал к агентам КГБ — это я знаю со всей достоверностью.
Иногда он бывал довольно остроумен. Как‑то после большого приема на Станкевича, по поводу которого дверь из кухни была наглухо закрыта, а по коридору, во всю длину, протянута ковровая дорожка, принесенная из театра, мы с папой и Чечиком куда‑то уходили. На лестнице Чечик лихо скинул одну галошу и глубокомысленно изрек: «Одна галоша — символ, а две — удобство…»
«Чечик хорош только своими пороками»,— говорил о нем отец.
Я заметила, что с некоторых пор недоверчивость и подозрительность стали считаться признаками ума. Возможно это дань эпохе. Во всяком случае, в России. Доверчивый человек вызывает снисходительную ухмылку современных Передоновых [2].
Назвать отца доверчивым было бы слишком однозначно. Он не доверял, а верил в людей, исходя из предпосылки, что» в каждом из нас заложено и плохое и хорошее. Весь вопрос в том, какую из этих сторон вызвать к жизни».
И люди оборачивались к нему своей» лучшей стороной», вводя отца в заблуждение относительно своих истинных качеств.
Так было и с Чечиком, и со многими другими, которые пользовались этим уникальным качеством отца — доброжелательностью.