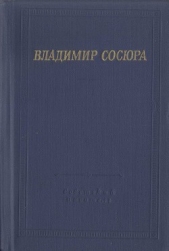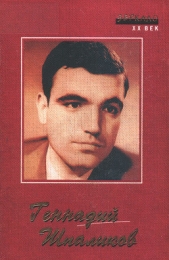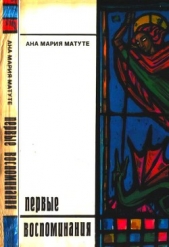Третья рота
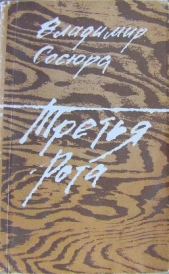
Третья рота читать книгу онлайн
Биографический роман «Третья Рота» выдающегося украинского советского писателя Владимира Николаевича Сосюры (1898–1965) впервые издаётся на русском языке. Высокая лиричность, проникновенная искренность — характерная особенность этого самобытного исповедального произведения. Биография поэта тесно переплетена в романе с событиями революции и гражданской войны на Украине, общественной и литературной жизнью 20—50-х годов, исполненных драматизма и обусловленных временем коллизий.
На страницах произведения возникают образы современников поэта, друзей и недругов в жизни и литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А из балаганов выбегают «на раут» бродячие артисты, созывая публику.
Хозяин зверинца на глазах у всех засовывает в рот скользкую и холодную голову удава, который пёстрой лианой обвивается вокруг его шеи, пояса и волной сбегает вниз.
Я купил за пятак билет и вошёл в зверинец. Мне было 12–13 лет, но я, не глядя на надписи, узнавал всех диких пленников, моих давних знакомых по Майн Риду и Густаву Эмару.
Особенно мне понравились обезьяны и их дети, которые, не обращая внимания на публику, меланхолически занимались пристойными и малопристойными делами.
Был поздний вечер, когда я, покинув зверинец, возвращался в свою родную хату, которую до сих пор часто вижу во сне, хотя мне уже почти шестьдесят два года.
Я научился ходить на руках, как ярмарочные гимнасты.
Сначала это у меня долго не получалось, и я часто расцарапывал до крови о землю скулы и щёки.
Но я упрямо продолжал своё и всё же научился. Тогда в селе не было инструкторов физкультуры. Я же не знал меры и поднимал тяжеленные камни на вытянутой руке, а главное, когда ходил на руках, то неправильно дышал, вернее, совсем задерживал дыхание. А потом, поскольку у меня не хватало терпения ждать, пока кровь отхлынет от головы, я подпрыгивал и всем вытянутым телом бился подошвами о землю, от чего всё во мне сотрясалось, как от удара грома… И так не раз и не два…
И вот однажды, когда я читал дедушке «Всадника без головы» (сам я был без головы с этими моими прыжками и хождением на руках), в сердце у меня что-то надорвалось, словно лопнула туго натянутая струна… Я захлебнулся… и продолжал читать дальше. А через несколько дней, придя как-то из школы, я потянулся к книжной полке, прибитой к стене у меня над головой, и почувствовал, страшно так почувствовал, что всё у меня в груди поползло вниз… И весь я, как связка туго натянутых струн, стал напрягаться всё сильнее, сильнее и, не выдержав этой муки, с плачем выбежал на улицу и, поднимая руки к звёздному небу, случайно коснулся сердца… Оно билось быстро, быстро.
Я пошёл к Трофиму Ивановичу, нашему нестареющему многоопытному фельдшеру, который мог дать сто очков вперёд любому доктору с дипломом, хотя диплома не имел.
Он послушал моё сердце и сказал:
— Что же ты так поздно пришёл? У тебя больное сердце…
XX
На горе заводской посёлок, а под горой содовый завод и наше село. Узкая и мутная речка Белая отделяет нас от завода. Она течёт в Донец, который серебряным поясом протянулся мимо дымной рощи заводских труб и задумчивых крестьянских хаток. А за заводом станция. Железная дорога лежит под горой, золотой подковой пересекает село и исчезает за синими ветряками. А по ней всё вызванивают и покачиваются красные змейки поездов, и видно, как под колёсами, на стыках, ритмично прогибаются рельсы и шпалы.
Мы цепляемся на ходу, и за нами гоняются кондукторы.
Сколько мальчишек оставили на кровавых и дымных рельсах нашей железной дороги свои головы и ноги.
Но это не останавливало остальных. И считалось геройством спрыгнуть с поезда, мчащегося с горы к заводу, или лечь между рельсами, а над тобой, громыхая, проносится поезд, смертельно звякая цепями… Его уж нет, где-то далеко стучат колёса, а ты всё ещё не поднимаешь головы… Всё кажется, что поезд пролетает над тобой, и полна грома твоя душа…
А попробуйте-ка пройти по одному рельсу от будки до будки или прыгнуть с высокой вербы в Донец, удариться головой о затопленную лодку и остаться в живых…
Вечно гудит завод, кричат паровозы, шумит за Донцом лес, и летят в дымной синеве вагончики за Донец, к далёким шахтам.
А ночью, если взойдёшь на гору, далеко внизу увидишь, словно яркий бриллиант, наполненный гулом и электричеством, завод и смутные каганцы села. Это наше село Третья Рота. Как я люблю тебя, моё бедное село-замарашка, с узенькими окошками и глиняными полами в хатах, с рушниками и красивыми девчатами!.. Твои песни, и гармоники, и парубков… Такие сёла есть только у тебя, моя могучая Украина, цвет мой дивный и нежный! Мои глаза пленены тобой… Твой синий ветер и золотые вечерние вербы, твои лунные ночи, звенящие соловьями, поцелуями, с длинными тенями тополей…
Третья Рота…
Поют телефонные провода в полях, и по столбовой дороге пролетают авто, а в них сидят люди, в шубах и синих окулярах. Оборванные и замызганные, мы выбегаем смотреть на них, и летят вслед им наши крики и собаки… Автомобиль хрипло и страшно кричит, и от его крика испуганные кони несут селян в бедных свитках, с суровыми и загорелыми лицами под золотистыми брылями…
Это — мои дядьки, это — моя Украина…
Какое счастье, что я — украинец, что я сын моей прекрасной и трагической нации!
XXI
В конце Красной улицы, возле хаты валаха Арифея и пивной Гавриленко, односельчане построили бабке Цыбульчихе маленькую, неогороженную мазанку.
Цыбульчиха, будто истаявшая свечка, вечно лежала на печи, и оттуда выглядывало её сморщенное, как земля и воск, лицо. Люди приносили ей краюшки хлеба и воду. Однажды хлеб остался несъеденным и вода не-выпитой. На печи лежало маленькое и высохшее тело с запавшими глазами и заострённым смертью носом.
Чужие люди обмыли и похоронили одинокую и не защищённую любовью, как и её хатка тыном, бабусю.
Мы стали жить в этой хатенке. Нас было десять душ: отец, мать и восьмеро детей — три мальчика и пять девочек.
Когда-то мы жили хорошо, но отец очень любил водку, и мы стали жить плохо. Мать вечно бегала за ним, чтобы он не пропил деньги, и мы росли как трава в грязи под солнцем — вечно голодные и немытые.
Оборвыши, мы вповалку спали на своей одежде, во сне мочились на неё и жили как мартышки…
Ночью являлся вечно пьяный отец, и хату заливал водочный перегар, и плач, и ругань матери… А отец, одурманенный алкоголем, не замечал ничего и на упрёки голодной матери отвечал:
— Бог даст день, бог даст пищу.
У него было узкое татарское лицо, выпуклые карие глаза, орлиный нос с чуткими и тонкими ноздрями, длинные казацкие усы и безвольный нежный подбородок, бороды не было, а под нижней яркой и полной губой рос кустик волос — буланжа. Пальцы у него были жёлтые от махорки, задумчивые глаза всегда смотрели вниз.
Он ходил немного сгорбившись, в сапогах и рубахе, подпоясанной верёвкой, любил петь грустные украинские песни и писал стихи. Говорил он по-русски. Это был феномен и жертва того времени. Пяти лет он стал школьником и на коленях у учителя решал задачки. Потом, в штейгерской школе, он, первоклассник, готовил к выпуску своих товарищей, третьеклассников. Тогда он был стройным юношей с вдохновенными светлыми глазами.
Как тяжко вспоминать эти дни, когда за окнами стонет вьюга, гудят авто и в дыму городских папирос, сквозь слёзы воспоминаний, маячит смуглое личико задумчивого мальчугана на деревянных коньках, привязанных верёвками…
Мне уже тридцать лет, у меня два сына, и один удивительно похож на меня. Я смотрю на него, на его ручонки и капризные губы… и возникает необоримое желание ещё раз прожить, хотя бы в воспоминаниях, свою жизнь над золотым Донцом, в тихом шуме верб и осок, в янтарном цвете акаций и церковном звоне, теперь чуждом, а когда-то таком мистическом и родном…
О моя Третья Рота… Твой ветер тепло и ласково бьётся в моё лицо, я плачу от любви и музыки, от того, что не вернулся к твоим покосившимся плетням, далёким яблоням, к моей молодости.
Моя смуглая и темноглазая мать варит борщ и проклинает свою долю. Мы, замурзанные и оборванные, бегаем вокруг неё, нам хочется есть, мы с утра ничего не ели, и, чтобы не так хотелось есть, мы долго спим… Но это не помогает, и мы терзаем мать своими голодными криками. А она, вся издёрганная, в грязной юбке, бьёт нас, худеньких своих палачей, и вытирает краем кофты злые слёзы.