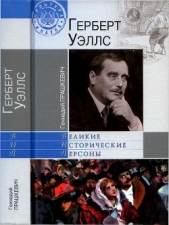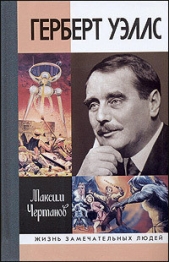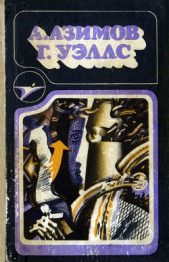Опыт автобиографии

Опыт автобиографии читать книгу онлайн
Приступая к написанию воспоминаний, автор и не подозревал, какое место в его творчестве они займут. Поначалу мемуары составили два тома. Со временем к ним добавился еще один, «Влюбленный Уэллс», — об отношениях с женщинами. В результате «Опыт» оказался одной из самых читаемых книг Уэллса, соперничая в популярности с его лучшими фантастическими романами.
В книге содержатся размышления не только над вопросами литературы. Маститый писатель предстает перед нами как социолог, философ, биолог, историк, но главное — как великая личность, великая даже в своих слабостях и недостатках. Горечь некоторых воспоминаний не «вытравляет» их мудрости и человечности.
«Опыт автобиографии» — один из важнейших литературных документов XX века.
На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При всем этом у нового режима есть выдающееся достижение — поведение изменилось, новое поколение полностью отрешилось от рабских традиций и отважно смотрит в глаза всему миру. С этим связана «ликвидация неграмотности». Но так ли уж это беспрецедентно? Сто лет тому назад, в век Невинности, простой народ Соединенных Штатов был свободен, равноправен, уверен в себе — и посещал начальные школы. Что же необыкновенного в том, чтобы почти самая последняя из всех стран Европы поняла, как важно научить грамоте рядового гражданина? Поистине, здесь не имеют представления о том, что творится в мире. «Подождите, увидите, на что способна эта молодежь», — говорит мой гид-большевик. Сто лет назад точно такой же, подающей надежды, была Америка.
Русские преобразования больше напоминают пропагандирование уравнительных лозунгов и поспешное введение уравнительных отношений после Первой французской революции. Ни американской, ни французской демократии не удалось предотвратить неравенства в распределении власти и капиталов. Плутократия сменила аристократию. «В нашем случае, — утверждают большевики, — мы от этого застрахованы». Но даже если им удалось искоренить спекуляцию и перепродажу, они не искоренят прочие способы извлечения выгоды. Их оборонительный обскурантизм погружает общество в тот самый мрак, в котором и могут зародиться новые посягательства на человеческое достоинство. Когда революционный энтузиазм спадает, бюрократический аппарат, огражденный от независимой критики, неминуемо изыскивает возможности для обогащения и привилегий. Благодаря абсурдной системе «торгсинов» в десятках мест в Москве и в Ленинграде вы можете раздавать взятки в иностранной валюте, и обычные жители привыкают быстро и почтительно отпрыгивать, как только завидят лихо мчащийся «линкольн». Коммунистическая пропаганда явно переоценила силу и уникальность этой революции.
Постоянные ссылки на что-то великое где-то совсем рядом либо в самом недалеком будущем напомнили мне испанское mañana [33]. «Возвращайтесь и посмотрите на нас через десять лет», — говорят они каждый раз, как увидишь очередную несообразность. Если вы замечаете, что новое здание еле держится или просто неуклюже, они тут же уверяют, что это временная постройка: «Да его скоро снесут!» Кажется, они больше любят сносить и переносить, чем создавать. По необъяснимым для меня причинам Академию наук переводят из Ленинграда в Москву. Возможно, так легче надзирать за фундаментальной наукой. Им вполне хватает Павлова; больше свободных умов старого образца с их беспредельной критикой, их скепсисом, их насмешками они не допустят. Люди науки должны стать рабочими пчелами без жала и жить в горьковском улье.
Народный комиссар просвещения Бубнов {354}, прощаясь со мной после прекрасной выставки детских рисунков, своеобразных, как всегда и везде, пустился в светлые раздумья о жизни, которой заживет новое поколение в обновленной России. «Все это временно», — сказал он, указывая на кучу строительного мусора, которым был завален небольшой садик. Можно подумать, что строители нового метро только что сложили мусор и на минутку отошли. «Раньше здесь был чудесный парк, — сказал Бубнов. — Ничего, через десять лет опять все будет в порядке».
Бубнов, как и Сталин, — один из немногих оставшихся в живых вождей, непосредственно руководивших революционными событиями; и он говорит, что оба они всерьез собираются дожить до ста лет, чтобы увидеть обильный урожай, который дадут эти всходы. Но кроме детей, обучающихся в образцовых школах, существуют несметные толпы снующих по улицам беспризорников. Мне кажется, даже если Сталин и Бубнов доживут до двухсот лет, Россия останется страной недовыполненных обещаний, мечущейся от одного начинания к другому.
Уезжал я, обманутый в своих нетерпеливых надеждах. Мне не удалось сделать хоть что-то, чтобы приблизить взаимопонимание между двумя, по сути революционными, движениями. И Америка и Россия могли бы построить организованный социализм. Если же они не поймут друг друга, они будут двигаться врозь, расходиться все дальше, по крайней мере — до тех пор, пока у коммунистов не возобладает новый тип мышления. Если бы я умел говорить по-русски, если бы я мог переиначивать марксистскую фразеологию по примеру Ленина, тогда, наверное, мне удалось бы сделать больше. Быть может, мне удалось бы установить желанный идейный контакт, и необязательно с самим вождем. Но я потерпел поражение, взявшись за дело, которое мне не по силам.
Когда я обдумывал все это в самолете по дороге домой, у меня не пропадало ощущение, что Россия меня подвела, хотя истинная подоплека, по всей видимости, в том, что я позволил своему сангвиническому, нетерпеливому нраву предполагать понимание и ясность в мыслях там, где до этого еще далеко. Я никогда не смогу смириться с тем, что очевидное для меня не очевидно любому встречному; и вот, решив найти короткий путь к «легальному заговору», я обнаружил, что при моих возможностях этого краткого пути не найдешь.
Я ожидал увидеть Россию, шевелящуюся во сне, Россию, готовую пробудиться и обрести гражданство в Мировом государстве, а оказалось, что она все глубже погружается в дурманящие грезы советской самодостаточности. Оказалось, что воображение у Сталина безнадежно ограничено и загнано в проторенное русло; что экс-радикал Горький замечательно освоился с ролью властителя русских дум. Быть может, в делах человеческих вообще нет коротких путей; каждый живет в своем собственном мире, закрывая глаза более или менее плотными шорами. Наверное, после этой неудачной попытки я должен найти утешение в тех редких и малоприметных признаках взаимопонимания, какие есть в нашей западной жизни. Для меня Россия всегда обладала каким-то особым очарованием, и теперь я горько сокрушаюсь о том, что эта великая страна движется к новой системе лжи, как сокрушается влюбленный, когда любимая отдаляется.
Лишний раз подтвердилась все та же истина: теперь, в нашу эпоху, всеобщей свободе и изобилию способны помешать только оковы мышления, эгоцентричные предубеждения, навязчивые идеи, неверные толкования, алогичные принципы, подсознательные страхи, да и просто непорядочность, возобладавшая над человеческими умами, в особенности — над теми, которые занимают ключевые позиции. Всеобщая свобода и изобилие вполне достижимы, но не достигнуты, и мы, Граждане Будущего, бродим по сцене современности, как пассажиры на палубе корабля, когда порт уже ясно виден, и только неполадки в штурманской рубке мешают в него войти. Многие люди, занимающие ключевые позиции в мире, для меня более или менее доступны, но мне не хватает силы, которая могла бы соединить их. Я могу с ними говорить, даже выбить из колеи, но не могу сделать так, чтобы они прозрели.
10. Заключение
Из Москвы в Ленинград я ехал в поезде, который назывался «Красная стрела» — советский отзвук «Flèche d’Or» [34], — а дальше пересел на самолет и отправился в Таллин. Заканчиваю я эту автобиографию в мирном, уютном домике на берегу небольшого эстонского озера.
Я постарался в общих чертах описать состояние и развитие современного сознания в его реакциях на то, что разъединяет и соединяет людей в наше время. Книга получилась большая, хотя я опустил огромное множество примечаний и подробностей, которые не так уж важны в истории о том, как пробуждалось чувство гражданской причастности к Миру в душе довольно заурядного человека. Не всегда легко было пожертвовать отклонениями, не рискуя при этом обескровить главную тему. За шестьдесят восемь лет накопилось столько мыслей и происшествий, что, если бы я не выпрямлял русла собственной речи, поток воспоминаний длился бы бесконечно. Сейчас, когда я приближаюсь к концу, я с тяжелым сердцем признаю, что не воздал должного огромному числу любопытнейших событий, радостям и красотам жизни, ее диковинным странностям, если они выходили за рамки самого существенного. Кажется, я так сосредоточился на главном тезисе, особенно — в этой длиннейшей главе, что мне не удалось выразить, насколько я благодарен жизни за ее щедрую способность быть чем-то, чего тезис этот никак не исчерпывает. Возможно, я слишком стремился к обобщению, и жизнь моя оказалась здесь каким-то голым скелетом. Пытаясь дать правдивый портрет очень определенной личности и адекватно отразить склад мыслей определенного типа и времени, сохранив прозрачность замысла, я сознательно вычеркнул множество воспоминаний и эпизодов, оставил без внимания массу интересных людей, пренебрег второстепенными пристрастиями и привязанностями и ни словом не обмолвился о пестрой веренице прекрасных или приятных впечатлений, которые проносились через мою жизнь, кружа мне голову, а потом отлетали прочь. Сколько радости доставили бы мне описания путешествий, прогулок в горы, берегов, городов, садов, музыки, пьес…