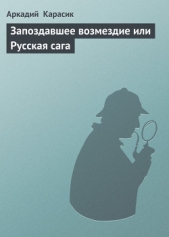Воздыхание окованных. Русская сага

Воздыхание окованных. Русская сага читать книгу онлайн
Окованными можно назвать вообще всех людей, все человечество: и давно ушедших из этого мира, и нас, еще томящихся здесь под гнетом нашей греховной наследственности, переданной нам от падших и изгнанных из «Рая сладости» прародителей Адама и Евы, от всей череды последовавших за ними поколений, наследственности нами самими, увы, преумноженной. Отсюда и воздыхания, — слово, в устах святого апостола Павла являющееся синонимом молитвы: «О чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными».
Воздыхания окованных — это и молитва замещения: поминовение не только имен усопших, но и молитва от имени тех, кто давно уже не может сам за себя помолиться, с упованием на помощь препоручивших это нам, еще живущим здесь.
Однако чтобы из глубин сердца молиться о ком-то, в том числе и о дальних, и тем более от лица живших задолго до тебя, нужно хранить хотя бы крупицы живой памяти о них, какое-то подлинное тепло, живое чувство, осязание тех людей, научиться знать их духовно, сочувствуя чаяниям и скорбям давно отшедшей жизни, насколько это вообще возможно для человека — постигать тайну личности и дух жизни другого. А главное — научиться сострадать грешнику, такому же грешнику, как и мы сами, поскольку это сострадание — есть одно из главных критериев подлинного христианства.
Но «невозможное человекам возможно Богу»: всякий человек оставляет какой-то свой след в жизни, и Милосердный Господь, даруя некоторым потомкам особенно острую сердечную проницательность, способность духовно погружаться в стихию былого, сближаться с прошлым и созерцать в духе сокровенное других сердец, заботится о том, чтобы эта живая нить памяти не исчезала бесследно. Вот почему хранение памяти — не самоцель, но прежде всего средство единение поколений в любви, сострадании и взаимопомощи, благодаря чему могут — и должны! — преодолеваться и «река времен», уносящая «все дела людей», и даже преграды смерти, подготавливая наши души к инобытию в Блаженной Вечности вместе с теми, кто был до нас и кто соберется во время оно в Церкви Торжествующей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В то время еще работали оставшиеся от прежних времен грязноватые и бедные товаром московские магазинчики с осколками разбитых бутылок у винных отделов, с пустоватыми полками и поблекшими этикетками на банках и бакалейных товарах родного отечественного производства. Но мы туда все равно любили заходить — эти «Продукты», «Бакалеи», эти «Овощи-Фрукты» и «Молочные» были своего рода продолжением наших домов, квартир, дворов и улиц. Они были «своими», обжитыми, привычными, они не отторгали, не подавляли человека, не втягивали его в безликие и бездушные ангары гипермаркетов, в них как-то продолжалась наша обыденная жизнь, возникали человеческие связи, симпатии и антипатии, завязывались знакомства. Эти скудные продовольствием и промтоваром магазины не скудны были теплом и простотой, а потому играли свою роль в московском бытии, даруя человеку драгоценное ощущение оседлости и сродства с окружающим миром. Они были частью родного московского «кормящего ландшафта». Конечно, Л.Н. Гумилев мыслил глобальными, эпического размаха категориями. Однако законы им открытые, вполне могли быть неформально соотнесены и с жизнью меньших человеческих сообществ — родов и семей, проживавших не столько в деревнях, сколько в городах.
…Нравы в магазинчиках были, конечно, тоже типично московские. Ругались и грубили, — о, да, на всякий лад и манер, но и привет был, и внимание. Приятие — неприятие: главное — небезразличие и искренность, а потому и ощущение родственности. По обе стороны прилавка можно было встретить своих одноклассников, былых сотоварищей по «двору», знакомых и друзей родителей — ведь раньше подолгу жили на одном месте. Кланялись знакомым лицам, имен которых никогда не знали, да особо и не стремились знакомиться ближе: как-то подспудно чувствовали, что и так наши жизни уже — и на веки — переплелись. Мы верили, что как тот поданный евангельский стакан воды, так и встреченная улыбка глаз и сердца — они никогда не исчезнут и тоже будут воспомянуты на Страшном Суде.
Бывало, годами мы так раскланивались и улыбались друг другу, как хорошие давнишние знакомые: она — мне, быстро заворачивая творожные сырки, а я — ей, всегда любуясь быстротой, ловкостью и добротой ее рук, абсолютной ее незлобивостью и спокойному приятию всего многообразия темпераментов, то и дело вскипавших в очереди, на нее наступавшей.
И вот теперь я спрашиваю себя: почему эти давние связи — мимолетные и, казалось бы, вовсе необязательные, ни на жизнь, ни на судьбу не влиявшие, со временем и даже после моего физического удаления от старой Москвы, странным образом стали набирать в моей памяти силу, смысл, и полноту значимости. Часто вспоминалось: где-то они, и как-то поживают? Да и живы ли? Вот та ветхая старушка, что всегда сидела на скамеечке во дворе под нашим окном на Большой Полянке? Как ее звали? Увы, и ее имени я не знала никогда. А ведь к ней на скамеечку подышать воздухом иногда в самые последние годы жизни, сложив рядом два костыля, подсаживалась моя мама. Прошло двадцать лет, как не стало мамы, как начались наши переезды с места на место, — столько воды утекло…
Казалось бы, что мне до этой старушки? Почему вот она живет, именно ж и в е т во мне? Почему ж и в е т Полянка? Да и многое другое, — зачем не просто помнится, а именно живет?
* * *
Однажды, двадцать лет спустя в нашем храме я вдруг увидела и узнала эту роста совсем уже детского и очень характерной внешности старушку… Мне часто встречался подобный тип в Москве: крайняя забитость от беспросветной жизни и побоев запойного сына или старика-мужа, о чем мог свидетельствовать и синяк под глазом, полнейшая нищета и вечно блуждающая, ехидная (по привычке к вечному вынужденному бытовому бабьему сопротивлению обидчикам, товаркам, и в общем, всем тяготам бедной жизни) и одновременно полублаженная улыбка на лице, а еще и бойкость, шустрость даже, — никакой там подавленности или угрюмости, какая-то природная живучесть всему вопреки, какой-то дальний отголосок старинного московского то ли скоморошества, то ли юродства…
Увидев ее в первый раз в нашем соборе, заволновалась: не та ли она, старенькая, со скамеечки в нашем дворе, что сидела всегда с мамой? Начала высчитывать, возможно ли, чтобы она была еще жива, и потом еще долго все к ней приглядывалась. Но ведь она мне всегда в храме так хорошо по-свойски, как давнишней знакомой, кивала, с готовностью и по-хозяйски пропускала приложиться к иконе, у которой она всегда стояла (хотя вовсе не ко всем была так благосклонна)…
Однажды я рискнула все-таки заговорить, угостила ее яблочком, и она мне опять хорошо так свойски улыбнулась, совсем как много лет назад, когда я пробегала по двору мимо нее, спеша по делам, а она провожала меня совсем такой же вот улыбкой. Возможно, она обо мне знала больше, чем я о ней, ведь они-то с мамой наверняка обо мне — единственной дочери — говорили… И будь она — она, то я ведь теперь могла бы услышать что-то о маме, любое живое слово, живое свидетельство, которому для меня теперь цены не было. И вот, наконец, я спросила у нее, жила ли она когда-нибудь на Большой Полянке. Взгляд ответный теперь метнулся ко мне вовсе без улыбки, но испытующий и даже какой-то строгий, не без грозных искр… «Нет и нет. Ничего подобного. Совсем другой район».
Странный был взгляд… Мистика: словно это была она, но «туда», мол, мне входа нет, и не будет никогда…
Осталось странное чувство, что все-таки я не ошиблась, и совсем, было, дотянулась рукой до прошлого, туда, куда запретен вход, — до мамы. Так было и тогда, почти через год после ее кончины, когда я совершенно непроизвольно, всегда и везде исступленно и неотступно просила Богородицу «дать свидание» нам: мама ушла, не простившись со мной. Меня в ту ночь не было рядом, я увезла из города от страшной жары свою маленькую дочку, а мама ехать с нами отказалась наотрез… Но я должна была вернуться к ней!
И вот однажды Великим Постом, после службы «12 Евангелий», где я огненно молилась о маме и о моем помиловании (а ведь была тогда уж совсем новоначальная), впервые почувствовав духом, что молитва моя услышана, возвратившись домой и заснув от усталости на стуле, я увидела свое вымоленное «свидание» с мамой у ног Великой, Величественной и строгой Жены… Мы с мамой были маленькие, на коленях, обнявшись у ног Той, на которую мы обе не смели поднять глаз… После этого свидания, последними словами которого были сказанные мне то ли мамой, то ли Самой Женой слова утешения, меня отпустило…
Ощущение запрета на грубое физическое вторжение в прошлое — отсюда — туда, внятное ощущение прикосновения к некоей тайне времени: жизни и смерти, этого мира и того, к тайне прошлого, являющего себя не тогда, когда мы того желаем и даже жаждем, но когда то угодно Богу, — все это было почти осязаемым, и вскоре, чуть ли не днями позже (здесь я отсчитываю время от разговора со старушкой, которое было уже почти через десять лет после кончины мамы) нашло себе неожиданное подтверждение…
* * *
…Было 2 июня — это запомнилось. Я возвращалась из Новоспасского монастыря с праздничной службы Вознесения Господня. В государстве этот день был, да и доныне остался будничным, и потому, возможно, с утра как-то меньше было городской сутолоки. Да и день выдался очень хороший: тихий, задумчивый… А потому из Новоспасского я пошла пешком, благо, что от Таганки до Землянки вовсе не далеко. Заглянула по дороге в маленький «Книжный», подумав, дай, что-нибудь хорошее куплю, да не заходя домой, почитаю где-нибудь во дворике — так хотелось продлить это время благодатного покоя и нерассеянной свободы для души, сохраняя то, что несла в себе из храма.
В крохотном «Книжном» посреди веерами разложенных книжных кошмаров, как ни странно сразу на глаза попался сборник воспоминаний о русских паломничествах во Святую Землю, — как он сюда попал? Да и год издания был давний, — чудеса…
Взяв книгу, свернула в какой-то старый двор с развешенным по-старинному на веревках бельем, со старыми тополями, еще живущими в вытоптанной московской земле без единой травинки, нашла истертую скамейку и уселась на нее среди старых кирпичных двухэтажных построек, какие еще при Императоре Александре III строил себе церковный причт, и разломив книгу наугад, начала читать…