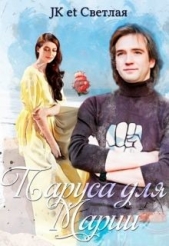Хранить вечно

Хранить вечно читать книгу онлайн
Эта книга патриарха русской культуры XX века – замечательного писателя, общественного деятеля и правозащитника, литературоведа и германиста Льва Копелева (1912 – 1997). Участник Великой Отечественной войны, он десять лет был «насельником» ГУЛАГа «за пропаганду буржуазного гуманизма» и якобы сочувствие к врагу. Долгое время лучший друг и прототип одного из центральных персонажей романа Солженицына «В круге первом», – с 1980 года, лишенный советского гражданства, Лев Копелев жил в Германии, где и умер. Предлагаемое читателю повествование является частью автобиографической трилогии. Книга «Хранить вечно» впервые издана за рубежом в 1976 и 1978 гг., а затем в СССР в 1990 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вахтанг рассказал, что некоторых из наших ночных гостей днем забрали в карцер, объявили, что на сутки, а завтра в этап. В то же время он сам видел усиленную охрану из надзирателей перед бараком, где жили придурки – повара, учетчики, банщики, самоохранники, кладовщики – и те, кто прислуживали за зоной, «шестерили» в домах начальства; среди них то и были главные заводилы сук. Видимо, начальство решило предотвратить новые кровавые столкновения. Все же Вахтанг опять привел вечером нескольких корешей. В барак мы перевели трех выздоровевших цинготников, а ночных гостей пристроили на освободившиеся места. Я знал, что и в юрте тяжелых есть такие гости. А когда собирал вещи, то у себя под койкой обнаружил топор и лом. Вахтанг сказал:
– Ничего, доктор, ничего, генацвали, сегодня полежит, завтра полежит. Ты поедешь, тебе не мешает. Мы остаемся, нам помогает.
Сразу же после отбоя пришел Саша с двумя пастухами и в сопровождении двух надзирателей.
– Ну как? Порядок в танковых войсках? Чего выпьем на прощание, доктор?
Они обошли юрту, посмотрели под койки… Саша и один из его парней, насупленный, туповато-молчаливый, еще посидели со мной в кабинке, выпили по мензурке рыбьего жиру, закусили розовыми витаминками и конфетами, оставшимися от последней посылки. Покурили. Саша говорил о том, что начальство решительно покончит с войной. Когда собаки грызутся, их надо водой разлить или палками разогнать. Завтра отправят по другим лагерям заводил, пусть на пересылках голыми руками душатся. А тех, кто убивал, по новой судить будут.
Я слушал его, слушал напряженную тишину за боковой перегородкой, в юрте, а сзади тихие шорохи, там возилась Милка.
Едва Саша ушел, в кабинку втиснулись Вахтанг, Бомбовоз, а за ними Сева и Аня Московская. Мила привела заспанную Валю. Вахтанг поставил на пол бутылку, на столике разложил газету – хлеб, куски рыбы, орехи и чурчхелу, открыл банку бычков в томате. Он распоряжался уверенно, весело.
– Мой папа – самый лучший тамада на весь район. Его зовут обязательно, где свадьба, где юбилей, где именинник. Я буду тамада. Мы сегодня провожаем нашего дорогого…
Он говорил вполголоса, в юрте спали, на зексе стояли поочередно ночные дежурные – им тоже поднесли по маленькой, – окошко завесили впритык, чтобы наружу ни пятнышка света. Вахтанг произносил пышные тосты, славил прекрасных девушек, наших боевых подруг, славил меня, славил своих друзей.
– Главное, что есть и в тюрьме, и на воле, главное – это дружба. Это когда ты имеешь друзей или, как мы говорим – корешей, и, как поется в одной иностранной, но все-таки народной песне, «за друга готов я хоть в воду», но лучше выпьем вино или даже водку…
Каждому из нас досталось примерно по сто грамм водки, девушки отказались, Мила пригубила из моей кружки. Мы сидели на двух койках, некоторые – на полу. Сидели тесно, дружно. А во мне смешивались, путались, распутывались и снова переплетались все впечатления последних дней, угрозы, тревоги, разговоры, страхи, воспоминания – горькие, постыдные, тоскливые, умильные, клочья недодуманных мыслей, полуосознанных ощущений. Хорошо, что уезжаю от этих зловонных юрт, начиненных чужими несчастьями, больными, которым не могу помочь, завтрашними трупами… Хорошо, что избавляюсь от воров, от сук, от гнусного подленького страха смерти.
Но что будет с Милой? Она рядом, прижалась к плечу, теплая, печальная, пальцы тонкие, но сильные, тискают мне локоть. Что будет с ней, кому достанется? Ведь придется ей не с одним, так с другим так же прижиматься, так же целоваться влажно, горячо, так же распахиваться… А что будет со мной? Куда загонят после нового суда? Не вспомнится ли все вчерашнее, как недостижимое благополучие?
Вахтанг произносил все более многословные тосты, на каждый глоток и даже над уже пустыми кружками. Он расчувствовался, называл меня лучшим другом, спасителем жизни.
С Милой удалось побыть вдвоем совсем немного. Она плакала. А я не мог забыться, не мог избавиться от путаницы мыслей. То ласкал ее нарочито жадно, а может, это в последний раз в жизни, и я никогда уже больше не прикоснусь к женщине, дойду в каторжных лагерях… Но с ней-то уж, конечно, в последний раз… То говорил нежную чепуху, обещал помнить, писать, найти потом, говорил, зная, что вру, но ведь в утешение, требовал, чтобы не изменяла.
Перед самым подъемом я вздремнул на полчаса, она еще что-то зашивала, штопала. Когда я проснулся – Вахтанг стучал в перегородку, – Мила писала, низко склонившись над листком из тетради. Это было прощальное письмо. Она сама принесла его потом на вахту, сунула мне вместе со свертком хлеба. Красивые, книжные, песенные слова о любви, разлуке, сердечном страдании, просьбы не забывать, обещания вечно помнить. Слова искусственные, но слезы были настоящие.
За вахтой стояла открытая трехтонка. Нас, десятка два зэков, погрузили. Были знакомые – Гога Шкет, рубивший Бомбовоза, лупоглазая Зина и оба сифилитика, которые тискали ее, запускали руки под юбку, а она только посмеивалась. На окрики конвоиров они возражали: у нас с ней одна болезня, одна гумозная доля, мы только с ней и можем без вреда.
Несколько старших воров, Леха Лысый, Никола Зацепа, Леха Борода, веселивший всех прибаутками и анекдотами, приветствовали меня, как своего «керю». Несколько сумрачных парней, которых Борода подначивал, величая «господа-граждане суки… ваши сучьи благородия…», жались особняком у самой кабинки шофера. Четверо конвоиров с автоматами сидели по углам на бортах, пятый с собакой – у задней стенки.
Мы ехали по лесной дороге. На березах просвечивала сентябрьская желтизна. Утро было пасмурным, прохладным.
Приехали на Красную Пресню. Там в тюремном дворе стояли часа два, выгрузили сперва больных, потом сук, потом осужденных – Гогу и еще нескольких доходяг-оборванцев, последними увели воров-родичей. Нас осталось трое – двух молоденьких парней везли на переследствие. И уже только два конвоира без собаки.
Подъехали к тюрьме на улице Матросская Тишина, во двор не въезжали. Один конвоир увел моих попутчиков. Увидев поблизости почтовый ящик, я упросил пожилого флегматичного стражника и написал открытку: «Еду, видимо, туда же, где бывал раньше, принесите, пожалуйста, луку, чесноку, махорки». Тот дал ее женщине, проходившей мимо: выбрал изо всех прохожих немолодую, в платке, в затрапезной кофте. Она мгновенно все сообразила – тюрьма напротив, – быстро-быстро отнесла мою открытку к ящику.
Когда мы подкатили к Бутыркам, было еще светло.
Знакомые зеленые ворота тихо задвинулись сзади. Тот же портал. Те же обыденноспокойные слова: «Пройдите. Руки назад!» То же позвякивание ключей.
И снова я входил в Бутырки, так же, как в первый раз после душегубки – вагонной пересылки, и так же, как во второй раз после ночи в подвале «Смерша» и поездки по Москве в наручниках, испытывая облегчение… Санаторий Бутюр!
Глава сороковая. Вечность продолжается
Снова маленькая опрятная камера спецкорпуса. Три койки.
Унылый штатский невысок, желтолиц; тоскливо-раздраженный взгляд; большой печальный нос; серовато-седая щетина на складчатых, вислых щеках; узкая плешь. Московский говорок с книжными узорами.
Второй – в застиранной армейской гимнастерке; немецкие бриджи, американские солдатские ботинки; рыжевато-рус, тощ, скуласт; водянисто-сизые глаза; говорит с южной распевкой; быстрые жесты долгопалых рук, изгибы толстогубого рта – явно еврейские.
Оба курящие, оба давно без табака. У меня с собой – и папиросы, и трубочный. Они дымят блаженно, неторопливо рассказывают.
Пожилой москвич – мастер художественной фотографии. Работал техническим руководителем большого фотоателье. Арестовали его весной «за порнографию».
– Я, батеньки мои, коллекционер эротического искусства. В Москве нас, настоящих любителей и ценителей, немного. Больше, разумеется, случайный элемент: мальчишки, старички – мышиные жеребчики и просто спекулянты-маклаки. Таким не важно художественное качество, им давай что позабористей. Но серьезному собирателю приходится общаться со всеми, ведь в любой дыре, батеньки мои, у любого невежды можно обнаружить негаданное сокровище. Я собирал главным образом французскую графику XVII-XVIII веков, гравюры и книжные иллюстрации, Буше, Фрагонара, Ватто, Греза. Были у меня и итальянские, немецкие, русские издания, но прежде всего французы! Вот где прелесть! Тонкость! Изящество! Вкус! Это, батеньки мои, не порнография, не похабная клубничка, а высокое искусство! Но как это объяснишь гражданам следователям, если все их эстетическое образование – «Иван Грозный убивает своего сына», раскрашенные фотографии и портреты вождей. Я тщетно им напоминал о музеях, о государственных картинных галереях, там ведь немало изображений нагих женщин, нередко и фривольные ситуации… Как можно говорить о распространении порнографии – так это именуется в уголовном кодексе, – когда, батеньки мои, я ничегошеньки не распространял, а, напротив, собирал, коллекционировал и притом прятал.