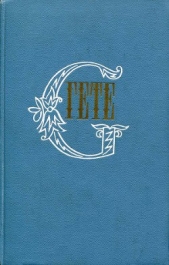Разговоры с Гете в последние годы его жизни
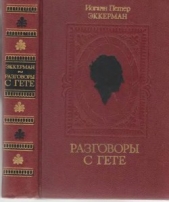
Разговоры с Гете в последние годы его жизни читать книгу онлайн
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда за двадцать четыре часа до нее я встретился с ним за завтраком, он выглядел больным и ничего не хотел отведать, но тем не менее еще живо расспрашивал о валунах, докатившихся из Швейцарии до балтийских стран, о хвостатых кометах, которые могли бы нежелательным образом замутить нашу атмосферу, и о причинах трескучих морозов, распространившихся по всему балтийскому побережью.
На прощанье он пожал мне руку, не без насмешливости заметив: «Вы полагаете, Гумбольдт, что Теплиц и другие горячие источники нечто вроде разогретой воды? Нет, это вам не кухонный очаг! Об этом мы еще поговорим в Теплице, когда вы приедете с королем [103], и вот увидите — ваш старый кухонный очаг еще даст мне возможность отогреться».
Странно! Все становится важным в устах такого человека!
В Потсдаме я несколько часов подряд сидел с ним вдвоем на канале. Он то пил, то засыпал; просыпаясь, снова пил, поднялся было, чтобы написать своей супруге, и опять заснул. Он был бодро настроен, но слаб, в минуты бодрствования он буквально теснил меня труднейшими вопросами касательно физики, астрономии, математики и геологии. Его интересовало, прозрачно ли ядро кометы, какова атмосфера на Луне, интересовали цветные звезды, влияние солнечных пятен на температуру, органические формы прамира, внутреннее тепло земного шара. Говоря или слушая меня, он засыпал, часто становился беспокоен и, словно прося прощенья за свою мнимую невнимательность, мягко и дружелюбно говорил: «Вы видите, Гумбольдт, я конченый человек!»
Внезапно он перешел к разговорам на религиозные темы. Сетовал по поводу распространяющегося пиетизма и связи этой фанатической секты с политическими стремлениями к абсолютизму и подавлению всякой свободы духа. «Вдобавок пиетисты лицемеры, — воскликнул он, — которые всеми правдами и неправдами силятся снискать благоволение власть имущих, чтобы добиться высоких постов и наград! Они ловко сыграли на поэтическом пристрастии к средневековью».
Вскоре гнев его утих, и он сказал, что теперь находит немало утешения в христианской религии. «Это человеколюбивое учение, — добавил великий герцог, — но искаженное с самого начала. Первые христиане были вольнодумцами среди реакционеров».
Я сказал Гёте, сколь искреннюю радость доставило мне это прекрасное письмо.
— Теперь вы сами видите, какой это был значительный человек, — отвечал он. — И как хорошо, что Гумбольдт подметил и записал эти последние немногие штрихи; они могут служить символом, отражающим всю природу этого редкостного государя. Да, таков он был! Кому же и сказать это, как не мне, ибо, собственно говоря, никто не знал его ближе и лучше, чем я. И разве же не ужасно, что перед смертью все равны и такой человек должен был рано уйти от нас! Еще одно какое-нибудь несчастное столетие, и как бы он, на своем высоком посту, продвинул вперед свою эпоху! Но знаете что? Жизнь и не должна идти к своей цели так быстро, как мы полагаем и как нам бы того хотелось. Демоны вечно путаются у нас под ногами и мешают нам идти вперед; жизнь, правда, продвигается, но очень уж медленно. Поживите-ка еще и вы убедитесь, что я прав.
— Развитие человечества, — вставил я, — видимо, рассчитано на тысячелетия.
— Кто знает, — отвечал Гёте, — может быть, и на миллионы лет. Но сколько бы человечество ни существовало, препятствий на его пути всегда будет предостаточно, так же как и разных нужд, дабы была у него возможность развивать свои силы. Умнее и интереснее, осмотрительнее оно, пожалуй, станет, но не лучше, не счастливее, не деятельнее, или только на краткие периоды. Думается, придет время, когда человечество перестанет радовать господа и ему придется снова все разрушить и все сотворить заново. Я уверен, что дело к тому идет и что в отдаленном будущем уже намечен день и час наступления этой обновленной эпохи. Но времени у нас, конечно, хватит, пройдут еще тысячи и тысячи лет, прежде чем мы перестанем наслаждаться этой доброй старой планетой.
Гёте, оживленный, в отличном расположении духа, велел принести бутылку вина и налил себе и мне по бокалу. Разговор у нас снова зашел о великом герцоге Карле-Августе.
— Вы видите, — сказал Гёте, — что этот высокоодаренный человек обладал умом, способным охватить все царство природы. Физика, астрономия, теология, метеорология, первичные формы растительного и животного мира — все это было ему интересно и дорого. Ему едва минуло восемнадцать лет, когда я приехал в Веймар, но уже и в ту пору по росткам и почкам можно было судить, какое со временем здесь будет выситься дерево. Он вскоре всей душой прильнул ко мне и принимал живейшее участие во всех моих затеях. Я был на десять лет старше его, и это пошло на пользу нашей дружбе. Он целые вечера проводил у меня в проникновенных беседах об искусстве, о природе и о многом прекрасном в этом мире. Мы засиживались до глубокой ночи и нередко засыпали вместе на моей софе. Пятьдесят лет мы с ним делили радость и горе, и не диво, если кое-что из этого вышло.
— Такая разносторонняя образованность, по-видимому, редко присуща августейшим особам, — заметил я.
— Крайне редко! — согласился Гёте. — Многие из них, правда, умеют искусно поддерживать беседу о чем угодно; но это не изнутри, они лишь скользят по поверхности, что, впрочем, не удивительно, если принять во внимание, какая ужасающая рассредоточенность и суета свойственна придворной жизни и как беззащитен против нее молодой монарх. На все-то он должен обращать внимание, должен знать немножко о том и немножко о сем, затем немножко о другом и немножко о третьем. И ничто не может для него укрепиться и пустить корни; право, надо иметь могучую натуру, чтобы при таком количестве требований не раствориться в мелочах. Великий герцог, несомненно, был рожден великим человеком, и этим все сказано.
— При всех его высоких запросах, как научных, так и чисто духовных, он, видимо, умел еще и управлять государством, — сказал я.
— Он был цельным человеком, — ответил Гёте, — и все, что бы он ни предпринимал и ни делал, вытекало из одного великого источника, поскольку так значительно было целое, значительны были и частности. В деле же управления государством он опирался на три своих качества: уменье быстро распознавать ум и характер каждого и каждого ставить на надлежащее место. Это уже очень много. Далее, был у него еще дар не меньший, если не больший, — его одушевляла истинная благожелательность, чистейшее человеколюбие, он стремился ко всеобщему благу и прежде всего думал о счастье своей страны, о себе же лишь в самую последнюю очередь. Всегда он был готов прийти на помощь добропорядочному человеку, способствовать достижению благих целей, тут рука его никогда не оскудевала. Было в нем что-то от господа бога. Он хотел бы осчастливить все человечество, а любовь, как известно, любовь и порождает, тому же, кого любят, легко править людьми.
И в-третьих: он был выше тех, кто его окружал. Когда по какому-либо поводу до него доносился добрый десяток голосов, он слышал только одиннадцатый — тот, что звучал в нем самом. Всякие наветы, как горох от стены, от него отскакивали, нелегко было толкнуть его на поступок, недостойный монарха, он отклонял двусмысленные услуги и, случалось, заступался за отъявленных негодяев. Он хотел все видеть сам и во всем полагался лишь на себя. При этом он был молчалив от природы, и за его словами всегда следовало дело.
— Как мне жаль, что я знал его лишь по внешнему виду, — сказал я, — но все равно он прочно врезался мне в память. Я, как сейчас, вижу его на старых дрожках, в серой поношенной шинели, в военной фуражке, с сигарой во рту — так он ездил на охоту, а его любимые собаки бежали за ним следом. Никогда он не ездил ни на чем, кроме этих непрезентабельных дрожек, запряженных парой. Как видно, шестерки лошадей и мундир с орденскими звездами были ему не по вкусу.
— У монархов такие выезды нынче уже не в чести, — отвечал Гёте. — Теперь важно, что весит человек на весах человечества: все остальное суета сует. Звезды на мундире и карета, запряженная шестерней, производят впечатление разве что на темные массы. Старые же дрожки великого герцога даже рессор не имели. Тому, кто сопровождал его, приходилось мириться с отчаянной тряской. Герцогу же такая езда нравилась. Он был врагом изнеженности и любил все примитивное, неудобное.