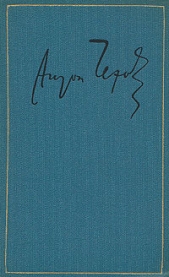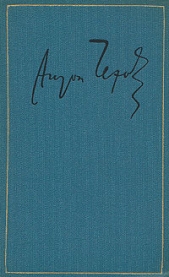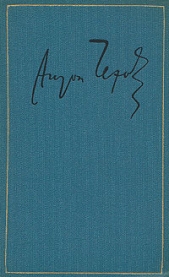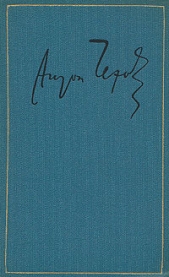Чехов. Жизнь «отдельного человека»
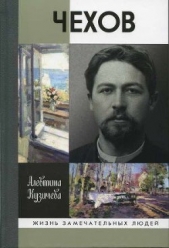
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако он принимал все возможные меры для безопасности своих родных, знакомых, своих пациентов. От природы чистоплотный, брезгливый к грязи, презиравший бытовую распущенность, Чехов с годами становился сверхаккуратным, чрезвычайно осторожным.
Упомянутая Чеховым «логика» была только его личной логикой: «Лечиться я не буду». «Желание жить» не включало эти заботы. Они убивали это желание. А оно тончайшим образом было связано с «желанием писать». Недаром он сказал однажды: «Болезнь — это кандалы». Лечение лишило бы его внешней свободы и внутреннего покоя. Болезнь отнимала силы для работы, а лечение уничтожало бы настроение, необходимое для работы.
Отказавшись от забот о своем физическом существовании, оговорившись не раз, что «всё от Бога», лучше, чем кто-либо, зная все признаки и само течение чахотки, ее неизлечимость, Чехов, вероятно, сумел освободиться от страха перед своим невидимым врагом. Долгие годы он боялся сыпного тифа, а чахотки не страшился. Говорил, что она подкрадывается незаметно. Она есть смерть, поселившаяся в теле. Но не мгновенная, а дающая срок, который не стоит тратить на лечение.
Что это? Бесстрашие перед чахоткой, перед смертью? Изображение смерти в его повестях и рассказах после Сахалина («Гусев», «Палата № 6», «Черный монах», «Скрипка Ротшильда», «Три года», «Мужики») не бесстрастно и не равнодушно, что бы ни говорили некоторые критики, приписывая ему хладнокровие в разговоре о смерти. Они объясняли все либо профессией Чехова, либо его «индифферентизмом», «квиетизмом», «пессимизмом». На самом деле оно всегда сдержанно, просто. Таково описание смерти в только что завершенной повести: «Николай стал дрожать; лицо у него осунулось и, как говорили бабы, сжалось в кулачок; пальцы посинели. Он кутался и в одеяло, и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал; просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер».
В том, что случилось в ресторане, для Чехова не было, по-видимому, ни драмы, ни потрясения. Произойди это дома, в Мелихове, он, может быть, «обошел бы беду». Незаметно для родных стал бы принимать, как всегда, в таких случаях, рыбий жир, креозот, предпринял другие меры. Но всё случилось на людях. Кровотечение было, как никогда дотоле, обильно и трудноостановимо.
23 марта Чехов оставался в номере у Суворина, куда опять приезжал Оболонский. Посыльный, по просьбе Чехова, привез из «Большой Московской» корректуру «Мужиков». Вечером заехал Щеглов, узнавший от Суворина, что стряслось. Таким образом, беда становилась общеизвестной. К тому же быть рядом с разговорчивым Алексеем Сергеевичем и молчать было невозможно.
24-го, рано утром, Чехов разбудил Суворина и сказал, что возвращается в свою гостиницу. Суворин пытался отговорить, упирал на то, что ни к чему никакие встречи, никакие дела. Но напрасно — Чехов ушел. Он написал короткое письмо Авиловой, объяснил, почему его не было в гостинице ни в субботу, ни в воскресенье: «<…> едва сели за стол, как у меня кровь пошла горлом форменным образом». Ни слова о возможной встрече, о визите. Чехов попросил прийти только Коновицера, знакомого московского адвоката. Может быть, он хотел на всякий случай посоветоваться о завещании. Сказал же, едва переехав в Мелихово: «Дело <…> в том, что всё время обязан думать о сроках и о всякой гадости, присущей долговым обязательствам. К тому же <…> вдруг я уйду от вас грешных в иной мир, т. е. поколею?»
В ночь на вторник кровь хлынула вновь. В 6 часов утра Чехов послал за Оболонским. Тот приехал немедленно. Оставлять больного в гостинице, а тем более отпускать домой (трястись по железной дороге, потом по чудовищному весной Каширскому тракту) доктор не решился. Он поехал к Остроумову, получил визитку с распоряжением — «принять в клинику А. П. Чехова». Чехов пошутил, что так как у него нет настоящей квартиры в Москве, то «пришлось лечь в клиники».
Сначала его поместили в палату № 16, о чем Оболонский известил Суворина. Тот поспешил на Девичье поле и потом записал в дневнике: «Как там ни чисто, а все-таки это больница и там больные». <…> Больной смеялся и шутил по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и спросил: «Разве река тронулась?» Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, что не имеет ли связи эта вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней тому назад он говорил мне: «Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: „Не поможет. С вешней водой уйду“».
По письмам и воспоминаниям современников трудно установить, сколько людей побывало у Чехова за дни его пребывания в клинике, с 25 марта по 10 апреля, несмотря на запреты и предостережения врачей, что больному вредно много говорить, долго сидеть и ходить. Чехова навестили: Суворин, Авилова, Толстой, Щеглов, Озерова, Яковлев, Ольга Шаврова. Приходили, но их не пустили: Коробов, Шехтель, Сытин, Саблин, Горбунов.
Самый пространный рассказ оставила Авилова. Он выдержан в общем литературном стиле ее сочинений. Доктор с трудом пустил ее к больному. Чехов тихим голосом произносил многозначительные фразы: «Как вы добры…»; — «О, как не везет нам!»; — «Я слаб, — прошептал он. — Милая…»; — «Так завтра непременно приходите опять. Я буду ждать. Придете?» На следующий день, 26 марта, она принесла букет. И это свидание Авилова воссоздала вольно или невольно в жанре мелодрамы. Она увидела «те же ласковые, зовущие глаза». Чехов будто бы говорил тихо, слабо пожимал ее руку и умолял не уезжать: «Нет! Останьтесь еще на день. Придите ко мне завтра, прошу вас. Я прошу!»; — «Останьтесь один день для меня. Для меня, — повторил он»; — «Не владею я собой… Слаб я… — прошептал он. — Простите…» Свое состояние она описала в таком же духе: «Ах, как мне хотелось встать тут на колени, около самой постели, и сказать то, что рвалось наружу. Сказать: „Любовь моя! Ведь я не знаю… не смею верить… Хотя бы вы один раз сказали мне, что любите меня, что я вам необходима для вашего счастья“. Но никогда…»
Да, Авилова навещала Чехова, но обе встречи она живописала так, как описывала подобные моменты в своих рассказах. Ее героини «смеялись от счастья», «опускались на колени», жили «с томительной жаждой радости, счастья и с тяжелой необходимостью подчиняться чужому настроению». Многие из них ждали, что герой вот-вот скажет им слова любви. Отсутствие личного счастья проступало в рассказах Лидии Алексеевны. Жизнь с ревнивым, неинтересным мужем, однообразные петербургские будни украшались придуманной жизнью.
Будни Шавровой были отчасти сходны с семейной жизнью Авиловой. То же подчинение настроению мужа, ожидание писем от Чехова, встреч с ним, та же подмена реальности воображаемыми историями. И все-таки в ее письмах и воспоминаниях сквозит иная интонация. Едва до Петербурга дошли вести о болезни Чехова, едва принесли его письмо от 26 марта, она ответила ему с иронией над собою, чтобы не показаться мелодраматичной: «Я предчувствовала, что что-то неладно <…>. Господи, как же это могло случиться? <…> В течение этих двух недель я каждый день ожидала Вас сюда <…>. В Петербурге холодно, серо и гадко. <…> Мне скучно, и я живу будущим, что весьма непрактично, как сказал Шопенгауэр. (Ужасная вещь — иметь дело с литераторшей, не правда ли?) Скажите Вашему профессору, что я умоляю его на коленях скорее вылечить Вас, за что я посвящу ему большой роман (!?). <…> выздоравливайте…»
Шаврова догадалась по письму Чехова, что жалость, ахи и охи неуместны. Он словно предупредил ее нарочитой грубоватостью и шутками, что пишет на бумаге, на которой «только что стоял графин», что просит написать, иначе «подохнет с тоски». И хорошо, если бы ему прислали «чего-нибудь съедобного, наприм[ер], жареную индейку», а то ему ничего не дают, кроме холодного бульона.
Елена Михайловна в тот же день написала сестре. Ольга Михайловна побывала в клинике и потом отчиталась в письме: «Я застала его на ногах, как всегда корректно одетого, в большой белой, очень светлой комнате, где стояла белая кровать, большой белый стол, шкапчик, несколько стульев. Он как будто немного похудел и осунулся, но был, как всегда, ужасно мил и весело шутил <…> не мог оставаться без дела. Ну, как думаешь, за чем я его застала? Он подбирал себе стекла для pincenez и очков! На столе стоял ящик со стеклами, а на стене висели картонные листы с буквами и надписями разной величины, какие бывают у оптиков в глазных лечебницах».