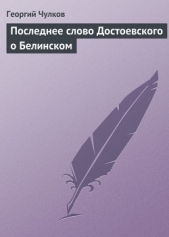Взгляд и нечто

Взгляд и нечто читать книгу онлайн
Автобиографическая и мемуарная проза В.П.Некрасова охватывает период 1930–1980-х годов. В книгу включены произведения, созданные писателем после вынужденной эмиграции и в большинстве своем мало известные современному читателю.
Это прежде всего — «Записки зеваки», «Саперлипопет», послесловие к зарубежному изданию «В окопах Сталинграда», «Взгляд и Нечто».
«Нет, не поддавайтесь искушению, не возвращайтесь на места, где вы провели детство… не встречайтесь с давно ушедшим», — писал Виктор Некрасов. Но, открывая этот сборник, мы возвращаемся в наше прошлое — вместе с Некрасовым. Его потрясающая, добрая, насмешливая память, его понимание того времени станут залогом нашего увлекательного, хотя и грустного путешествия.
Для многих читателей Виктор Платонович Некрасов (1911–1987) сегодня остается легендой, автором хрестоматийной повести «В окопах Сталинграда» (1946), которая дала ему путевку в литературную жизнь и принесла Сталинскую премию. Это было начало. А потом появились «В родном городе», «Кира Георгиевна», «Случай на Мамаевом кургане», «По обе стороны океана»… Последнее принесло ему ярлык «турист с тросточкой». Возможно, теперь подобное прозвище вызывает легкое недоумение, а тогда, в уже далеком от нас 1963, это послужило сигналом для начала травли: на писателя посыпались упреки в предательстве идеалов, зазнайстве, снобизме. А через 10 лет ему пришлось навсегда покинуть родной Киев. И еще с десяток лет Некрасов жил и писал в эмиграции… На его могиле на небольшом муниципальном кладбище Сен-Женевьев де Буа под Парижем всегда свежие цветы…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— У вас есть кто-нибудь в ЦК?
— В ЦК партии?
— Да, в ЦК партии…
В ЦК партии у меня, увы, никого не было. Но был знакомый председатель областного суда. В свое время он помог в деле одного моего друга.
Она невесело улыбнулась.
— Бесполезно. Такие же говнюки, как и мы. Все по телефонному звонку.
Глузман просидел недолго. Подпал под амнистию после смерти Сталина. Через год или два он умер.
А Васютинская? Умная, все понимающая Васютинская? Очень она мне была нужна, когда посадили другого, моего Глузмана. Нужна была не помощь, просто совет. А может, и помощь. Этого-то она и испугалась. Уловить ее оказалось невозможно. Ни днем, ни утром, ни поздно вечером.
Да, Софа, очень Вы огорчили меня тогда. Понимаю, Вы ничего не могли сделать, Вы были беспомощны, как все советские адвокаты. Но Вы могли, встретившись со мной где-нибудь на нейтральной почве, ну где-нибудь в Царском саду, и, взяв меня под руку, сказать… Ну хотя бы то, что сказала мне видевшая меня в первый раз в жизни судьиха. Кто тянул ее за язык? Могла просто выставить меня за дверь. А вот не выставила, заговорило в ней что-то человеческое.
Славик читал Самиздат. Ему дали семь лет. Марику Райгородецкому, брату моего бывшего друга, молодому учителю, дали два за то, что обнаружили у него в портфеле «Мы» Замятина. Он зашел ко мне, не зная об этом, во время обыска. Нельзя читать Самиздат, нельзя читать Замятина.
Самое нелепое, самое бессмысленное, что может придумать власть, оберегающая свою систему, свою идеологию, — это запретить читать. Нигде и никогда за всю историю человечества это не приводило к желаемому (властям!) результату. Читали, читают и будут читать! Всегда! И как бы за это ни карали.
Не знаю, считают ли власти своей победой изгнание Солженицына, Синявского, Максимова, Ростроповича, людей, для которых Родина не последнее понятие, возможно, и мой отъезд отнесен в актив. Если это так, то они добились своего. Я уехал, потому что был лишен возможности читать. И писать, добавим. Но это уже дополнительно, чисто профессиональное. Получаешь государственную пенсию, можешь и не писать. Написал уже свое, хватит…
Что может быть унизительнее (для власти, не для нас!), когда ты вынужден читать, передавать из рук в руки мельчайшие фотокопии, нет, не антисоветчины даже, а, ну допустим, «Дальних берегов» Набокова — мне под величайшим секретом дали их почитать в Ленинграде — смотрите, не оставляйте в гостинице, носите с собой.
Что может быть унизительнее (для власти, не для нас!), когда у тебя с книжной полки забирают Анну Ахматову (ах да, там «Реквием»!), Марину Цветаеву (там же «Лебединый стан»!), Гумилева (он же расстрелян!), даже «Беседы преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым» (гм-гм… Не пристало писателю, да еще коммунисту, всяких там преподобных читать).
(Не знаю, может быть, унизительнее этого, и не только для властей, это когда ты идешь в уборную — свою собственную! — и тебе не разрешают закрыть дверь. Я как-то не нашелся, а жена моя, человек патологически вежливый, просто сказала: «Я не привыкла этим заниматься в обществе» — и захлопнула дверь.)
Совсем недавно я прочел в «Литературной газете», что в Уругвае запрещены такие-то и такие-то писатели, в том числе и Горький. Да черт с ним, в конце концов, с Уругваем, он далеко, а Россия близко. Попробуйте достать у нас «Несвоевременные мысли» Горького. Недозволенные нечего читать!
Так вот, Славику хотелось читать и «Реквием», и «Лебединый стан», и всякого рода другие недозволенные мысли. Но сел он не только за это. Это, так сказать, фасад, протокольно-приговорная сторона дела.
У нас не только нельзя читать, у нас нельзя дружить. Нельзя дружить с Плющом (а Славик с ним дружил), нельзя дружить со мной.
Думаю, что власти (а может, потом кому-то за это и досталось, льщу себя я надеждой) были совсем не против того, чтоб я убрался подобру-поздорову. И попытались создать вокруг меня вакуум. Славика и Марика посадили, Снегирева — моего друга, писателя и режиссера — исключили из партии, прогнали с работы, кое-кого начали вызывать в КГБ. Неуютно стало друзьям.
Здесь я подошел (не в первый уже раз) к самому для меня горькому, самому обидному, самому тяжелому.
С М-ном (назовем его так) мы дружили со студенческих лет. Любили друг друга. И маму мою он любил. И я его семью, детей.
И вот подошло время. Звонок.
— Вика?
— Я.
— Привет. Вот только что из длительной командировки вернулся. Решил позвонить тебе. Как жизнь?
— Да ничего. Собираюсь вот уезжать.
— Далеко?
— Как сказать… в Швейцарию.
Пауза. Длинная, длинная пауза.
— Ну ладно, будь. Звони.
Звони? Больше я его не видел и не слышал… Жена его не выдержала и пришла. Она не произнесла ни одного слова. Только плакала. Стояла посреди нашей кухни и плакала. Я на всю жизнь запомнил ее лицо. Мокрое от слез. Потом мы молча обнялись… Не могу, но так хочется спросить: «Ну а сын ваш, милый мой Бобка, неужели не спросил вас: «Папа… мама… Мы что, не пойдем провожать дядю Вику?» Не мог он этого не спросить. И вы сказали — «нет» или, в лучшем случае, «как знаешь… смотри сам». И он посмотрел и не пришел.
И это после сорока пяти лет дружбы.
Другой друг, тоже со студенческих лет, в противоположность М-ну, пришел прощаться. Он отсидяга, поэтому не трус, а у него тоже подрастающее, вернее, подросшее поколение, мог бы сказать: «Я не за себя, я за сына…» Пришел, а на нем лица нет. «Знаешь, встретил я у тебя в Пассаже нашего А. (Все мы учились в одном институте.) Спрашивает: «Ты куда? Неужели к Вике?» — «Да, ведь он же уезжает». — «Ты ненормальный, просто ненормальный», — сказал он мне, и на этом мы расстались».
Тут тоже цифра сорок пять…
Можно было бы продолжить. Да не хочется. И вообще я уже повторяюсь… Но как трудно в некоторых случаях не повторяться.
И опять повторяю, с великой настойчивостью повторяю, единственное, что удалось советской власти, в полном объеме удалось, это застращать, запугать, этого у нее не отнимешь. И тем прекраснее те, кого не удалось запугать. Славик относится именно к ним.
Я много думаю о Славике. Очень много. Особенно когда мне хорошо. Когда плыву по тихому озеру в лодке, взбираюсь по тропинке на скалу, когда, как сейчас, сижу и смотрю в окно, на бегущие над соснами облака. А Славик?
Беру «Посев», листаю. «Хроника зоны 35».
16–21 сентября направили заявление Подгорному с угрозой отказаться от советского гражданства следующие заключенные: Альтман, Глузман, Кивило, Шушник и другие.
30 сентября Глузман направил письмо академику Снежневскому по поводу содержания в лагере абсолютно невменяемого Бружаса. 1 октября в зону был вызван консультант-психиатр, впервые осмотревший Бружаса.
8 октября Глузману объявлено, что его письмо академику Снежневскому не будет отправлено адресату, так как содержит сведения, не подлежащие разглашению.
10 октября выездной суд актировал Бружаса «по болезни» (таким образом, письмо Глузмана Снежневскому было конфисковано, чтобы избежать его официальной регистрации и успеть освободить Бружаса «без напоминания Глузмана»).
20 октября по рапорту Чайки наказан Глузман.
24 октября утром при освобождении Заграбяна из ШИЗО состоялся такой диалог. Надзиратель Губарев: «Связался с жидами, будешь все время в ШИЗО валяться». Заграбян: «Но ведь из евреев в зоне остался один Глузман». Губарев: «Вот именно с ним не связывайся, иначе будешь и тридцать лет сидеть тут. Есть такие, сидят по тридцать лет».
Вот так вот — наказан, конфисковано, не будет отправлено, не связывайся, тридцать лет…
Тихий, милый, пописывающий рассказики Славик оказался человеком, которого в лагере начальство даже побаивается. Успеть освободить Бружаса без напоминаний Глузмана… Он протестует, объявляет голодовки, посылает свои исследования — не боюсь этого слова — за границу. Славик и на воле не был труслив, сейчас он стал дерзким, вовсе бесстрашным. Он стал примером. Он и Буковский. Друзья.