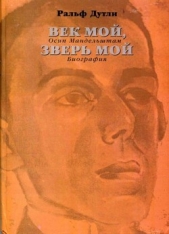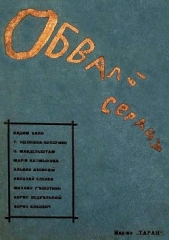Осип Мандельштам и его солагерники

Осип Мандельштам и его солагерники читать книгу онлайн
Новая книга Павла Нерлера — реконструкция последних полутора лет жизни О. Э. Мандельштама: от возвращения в середине мая 1937 года из воронежской ссылки в Москву (точнее, в стокилометровую зону вокруг нее) и до смерти поэта в пересыльном лагере под Владивостоком 27 декабря 1938 года. Но и в лагере поэт был не один, а в массе других заключенных, или, как он сам выразился, «с гурьбой и гуртом». Автор собрал по крупицам сведения и о тех, кто окружал поэта в эшелоне и в лагере, и кто являл собой тот своеобразный гулаговский социум, в котором протекли последние недели жизни поэта. В разделе «Мифотворцы и мистификаторы» собраны различные отголоски лагерной жизни и смерти поэта, звучащие в прозе Варлама Шаламова, стихах Юрия Домбровского, песне про товарища Сталина и др., а в разделе «Следопыты» показана история поиска Надеждой Мандельштам и другими энтузиастами сведений о тюремно-лагерном — завершающем — этапе жизни Осипа Мандельштама. В приложениях публикуются полный именной список «мандельштамовского эшелона» и рассказ о непростой истории первого в мире памятника поэту, созданного в 1985 году и впервые установленного в 1998 году во Владивостоке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Следующая достоверная дата — 9 мая. В этот день, согласно служебной записке № 16023, было отдано распоряжение доставить О. М. из внутренней (Лубянской) тюрьмы в Бутырскую и поместить в общую камеру.
Возможно, его выполнили не сразу, поскольку следующее документированное событие произошло всё еще на Лубянке — и 14 мая. Дактилоскопистом (подпись неразборчива) Внутренней тюрьмы ГУГБ НКВД г. Москвы сняты отпечатки пальцев О. М.: правая рука, левая, контрольный оттиск…
Тюремно-лагерное и следственное дела — это совершенно разные вещи [143]. Раньше мы могли лишь гадать о том, велось ли следствие или нет, и, если велось, то кто был следователем и какими методами велись допросы. В условиях заведенной машины ОСО, где даже подпись секретаря была заменена казенным штемпелем, большой необходимости не было даже в протоколах и допросах. Может быть, весь следовательский труд свелся к двукратному заполнению анкеты, точнее, учетно-статистической карточки на арестованного?..
Как раз в апреле — шапки долу перед «царицей доказательств»! — были сняты последние ограничения на физические методы воздействия при допросах (впрочем, их начали применять еще после февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) — но это как правило, а в отдельных случаях пытки были в ходу еще с конца 20-х годов) [144].
Относительно технологии допросов и вообще расследования процитируем свидетельство Александра Алексеевича Гончукова, в 1937–1938 годах бывшего оперуполномоченным 2-го и 5-го отделений 4-го отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области:
«По установившейся в то время практике расследование уголовных дел о контрреволюционных преступлениях проводилось следующим порядком: арестом лиц, на которых имелись материалы о совершении ими контрреволюционных преступлений, занималась специальная группа работников отдела, они же готовили материалы для ареста. После ареста материалы, состоящие из документов, по которым оформлялся арест, и копий протоколов допроса лиц, давших показания на арестованного, передавались работнику, которому поручалось проведение следствия, причем копии этих протоколов заверялись, как правило, работниками отдела, а копии протоколов, отпечатанные на ротаторе, также работниками отдела, причем до печатания на ротаторе.
Получив эти материалы, мы приступали к допросу арестованного. Первый протокол допроса всегда составлялся допрашивавшим от руки. Когда арестованный отрицал свою антисоветскую деятельность, мы уличали его имевшимися в нашем распоряжении материалами, т. е. показаниями лиц, копии протоколов допроса которых у нас были. Перерывы в допросах арестованных были в ряде случаев потому, что допросы арестованных, во время которых они не признавали себя виновными, протоколами не оформлялись. Когда арестованный после определенного времени начинал давать показания о своей контрреволюционной деятельности, ему предоставлялась возможность собственноручно написать о проведенной им антисоветской деятельности. Впоследствии на основании собственноручных записей арестованного и других черновых записей составлялся обобщенный протокол допроса. Этот протокол после составления лицом, ведущим следствие, передавался для корректирования начальнику отделения, а в некоторых случаях и более старшим начальникам. Они производили так называемую литературную обработку протоколов допроса, но в основном содержание протокола оставалось таким, как составлял его работник, проводящий следствие. После отработки протокол допроса печатался на машинке и давался на подпись подследственному. Когда подследственный по тем или иным мотивам отказывался подписывать обобщенный протокол, он уличался его же собственноручно написанными показаниями, тогда он протокол подписывал. После этого черновые материалы уничтожались. …В тот период существовал такой порядок, что если протокол подписывался двумя лицами, равными по занимаемой должности, то первая подпись была того работника, который проводил допрос и составлял протокол допроса, а второй работник, подписавший протокол, только присутствовал. При подписании протокола допроса арестованных в тех случаях, когда в допросах принимали участие старшие начальники, их подписи ставились первыми, а подпись работника, проводившего допрос, последней. …В то время в Управлении НКВД ЛО знали, что работники нашего отдела КУЗНЕЦОВ Петр и ПАВЛОВ Иван били арестованных, их и звали молотобойцами. …Я физических методов воздействия к арестованным не применял. Что касается длительных ночных допросов арестованных, то такие случаи имели место, имели место и допросы со стойками». [145]
В Москве репутацией «молотобойца» пользовался следователь Г. С. Павловский. А может быть, и мандельштамовский следователь, Шилкин, тоже был из таких же? Может, Осипа Эмильевича били, мучили, опускали, требовали, чтобы он назвал сообщников? Ведь появилась же откуда-то в обвинении запись «эсер», как появились у него самого боязнь быть отравленным и другие признаки явного обострения психического расстройства на этапе и в лагере? И что означают сведения Домбровского о роли бухаринских записочек в судьбе О. М.? В свете мартовского процесса над Бухариным в этом, кажется, есть своя логика [146].
Теперь, когда следственное дело стало доступно и введено в научный оборот [147], многое, даже очень многое прояснилось; многое — но не всё.
Через три дня после снятия отпечатков пальцев — 17 мая — состоялся единственный запротоколированный в деле допрос. Следователь — младший лейтенант гб П. Шилкин — особенно интересовался не столько нарушениями административного режима, сколько тем, кто из писателей в Москве и Ленинграде поддерживал О. М., но в особенности знакомством О. М. с Виктором-Сержем, что являлось явным отголоском ленинградских дознаний. Там же, видимо, и источники других полуфантастических сведений и анахронизмов: несколько лет в Париже, якшание с анархистами, отъезд в Киев в 1919 году из Ленинграда (sic!), горячие симпатии к троцкизму в 1927 году. Интересно, что к числу поэтических вещдоков впервые попали стихи 1917 года — «Керенский» и «Кассандра».
Допросом чекистская пытливость не ограничилась. Искали рукописи, посылали запрос в Калинин, поручая обыскать квартиру, где жил О. М. (в сочетании с путаницей с адресами ушло у них на это двадцать дней — от 20 мая до 9 июня [148]). Но там ничего уже не было: Надежда Яковлевна опередила оперативников и прибрала заветную корзинку со стихами.
Оперативная активность возымела еще одно русло — медицинское.
20 июня зам. начальника секретно-политического отдела Глебов-Юфа [149] направил в 10-й отдел ГУГБ запрос, по-видимому, о состоянии душевного здоровья О. М. Возможно, это было личной просьбой подследственного: мы знаем, что в критические моменты О. Э. и сам не раз пытался прибегнуть к медицине как к средству защиты.
Комиссия (под председательством лекпома санитарной части НКВД, военврача 2-го ранга А. Л. Смольцова [150] и двух консультантов-психиатров — профессоров Бергера и Краснушкина [151]) освидетельствовала поэта 24 июня. Заключение комиссии (акт медицинского освидетельствования) — образчик казуистической двусмысленности: с одной стороны, «подследственный является личностью психопатического склада со склонностью к навязчивым мыслям и фантазированию», а с другой — он же — никакой «душевной болезнью не страдает»!
Вердикт же комиссии сформулирован так: «Как недушевнобольной — ВМЕНЯЕМ»! Именно так, заглавными буквами, написано в документе, словно этой формулировки одной и недоставало для какого-то особого, нам недоступного, чекистского представления о красоте следствия!