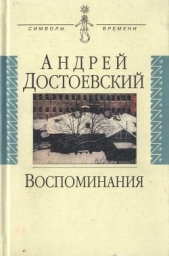Школьные воспоминания

Школьные воспоминания читать книгу онлайн
Владимир Людвигович Дедлов (настоящая фамилия Кигн) (1856–1908) — публицист, прозаик, критик. Образование Дедлов получил в Москве, сначала в немецкой «петершуле», затем в русской классической гимназии. В 15 лет он увлекся идеями крестьянского социализма и даже организовал пропагандистский кружок. Это увлечение было недолгим и неглубоким, однако Дедлов был исключен из старшего класса гимназии, и ему пришлось завершать курс в ряде частных учебных заведений. «Мученичество» своих школьных лет, с муштрой и схоластикой, он запечатлел в автобиографических очерках «Школьные воспоминания». Издание 1902 года, текст приведен к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот крик мы, уже сидевшие за приготовлением уроков, слышали, но самого З. с той минуты никто из нас больше не видал, точно его в мешке в реку бросили. Это исчезновение произвело на нас угнетающее впечатление. Вот она, железная дисциплина! И ничего подобного потом не повторилось. Только раз мой приятель А., снимая в спальне сапоги, пустил ими в надзирателя. Он тоже мгновенно исчез, точно сквозь землю провалился: устраивалось это с совершенно полицейской ловкостью. Через месяц к величайшему удивлению гимназии, А. вернулся. Оказалось, что у него была нервная горячка.
Железная дисциплина исключала всякую жизнь. Приходилось заменять ее воображением, и поэтому весь пансион всё свободное время проводил за чтением. Читали запоем. Читали наедине, читали парами. Устанут читать, начинают рассуждать о прочитанном. Ничего хорошего из этого не выходило. Все, разумеется, бросались на беллетристику, а о выборе книг никто не думал и не заботился. Детям давали любовные повести Тургенева и «Детство и отрочество» Толстого, вместе с другими его рассказами того же характера. Тургенев великий поэт, Толстой великий психолог и анализатор, но оба на детей действуют как гашиш, как на грудного ребенка соска из мака. Это чтение доставляло невыразимое наслаждение; книга была точно окно, в которое видел всё счастье, какое только можно собрать на земле, среди её светлых радостей и поэтических горестей, — и не хотелось отрываться от этого окна. Но это — вредное наслаждение в четырнадцать, пятнадцать лет. Это развивает мечтательность и созерцательность в ущерб энергии, не говоря уже о том, что пробуждаются инстинкты, которые в этом возрасте должны покрепче спать. Это дает превратное понятие о жизни, которую привыкаешь считать состоящей из одной поэзии и пафоса. Художник развивается в мальчике в ущерб работнику. Хорошо, если в ребенке кроется действительно художник, тогда еще куда ни шло: пусть этою ценою будет куплен новый поэт, писатель или артист; но и тут должно иметь в виду, что крупная, действительно ценная художественная сила разовьется без искусственных мер, а о том, что несколькими сочинителями средней руки стало меньше по той причине, что их способности не подогревались, жалеть не стоит. Что же сказать о натурах просто мечтательных, с воображением всего лишь раздражительным? Для них раннее чтение без разбора только вредно. Для них полезней драться, получать синяки, разбивать носы, хорошо уставать, плотно есть и крепко спать.
5
От чтения к авторству — один шаг. Читатель ведь тот же автор, только сочиняющий в компании с автором. Насочинявшись вдоволь в сотрудничестве, читатель начинает пробовать свои силы самостоятельно. Пансионская скука способствовала этому занятию в высшей степени, потому что причина сочинительства в конце концов — скука, в её разнообразных видах: неудовлетворенных желаний, несбывшихся мечтаний, сожалений о прошлом, тоски по идеалу, наконец, просто скуки от бездеятельности или от недостаточной деятельности. Потребность в творчестве приходит уже потом, когда человек привык к нему. Тургенев с такой охотой и поэтической силой описывал любовь, потому что он не любил счастливо. Толстой писал свою эпопею, где действуют народы, герои, цари и провидение, будучи чиновником уездного по крестьянским делам присутствия и среди идиллической семейной и деревенской обстановки. Свободный человек не станет писать пламенные дифирамбы свободе — он займется её исследованием, — какие сочинит раб или запертый в тюрьму. Мы в пансионе всегда были голодны и потому самыми высокими местами «Мертвых Душ» считали сцены у Петуха и завтрак Чичикова у Коробочки.
Меня на сочинительство натолкнул учитель немецкого языка, который нашёл, что я настолько владею языком, что, не в пример товарищам, могу писать Aufsätze. Правда, мы писали «сочинения» и по русскому языку, но там темы задавались, тогда-как у немца я выбирал их сам и «шёл дорогою свободной, куда влечет свободный ум». Из этой свободы чуть не вышло беды. Немного спустя я, конечно, основал журнал. Еще через год я учредил литературное общество, навлекшее на её членов уже настоящую беду, а для некоторых и непоправимую.
Немец был хороший человек, но угнетенный атмосферой казенной русской школы. Литературу, в особенности немецкую, он любил со всем жаром немецкого сердца и упорством немецкого темперамента. Шиллер, Гете и Шекспир — это были его земные боги. Но своей страсти он давал волю только у себя дома, в кабинетике, заваленном роскошными изданиями любимых поэтов. Там он предавался восторгам и парил своим немецким духом. В гимназии же он появлялся с неизменной грустно-иронической обиженной улыбкой. Кто тут занят Шиллером и Гете! Кто тут исполнен постоянного восторга пред Шекспиром! Тут властителем дум является не бессмертный Вильям, а «его превосходительство». Здесь трепещут не тогда, когда раскрывают «Фауста», а когда вбегает сторож и шепчет: «Попечитель приехал!» И немец улыбался обиженно-иронической улыбкой. Посвящать в свои восторги учеников? — Этого нет в программе, а за исполнением программы строжайше «следят». Свои обязанности немец исполнял добросовестно, но без всякого воодушевления. Идеально мертвым учителем он, однако, всё-таки не сделался. Он отличал Иванова от Крестовоздвиженского, видел, что Иванов — подлиза, и питал к нему презрение; понимал, что Крестовоздвиженский, хоть и шалун, но честный мальчуган, и выказывал ему расположение. Но и расположение и презрение были сдержанные, с оттенком грустной иронии, всё равно, из них ничего не выйдет; нужно быть казенной машиной, а не живым человеком. Дисциплину немец понимал тоже по-человечески, а не как машину. Помню такой случай. Немец иногда со мной шутил, и я с ним однажды расшутился, но неудачно и чересчур. Перед его приходом в класс я во всю доску нарисовал рожу, единственную рожу, которую я, при полной неспособности к рисованию, умел чертить. В ту минуту, когда немец уже входил, я с ужасом заметил, что рожа совершенно случайно представляет явную карикатуру на учителя. Немец посмотрел на доску, обвел глазами класс, заметил краску на моем лице и сказал:
— Ничего характерного. Удивительно бездарно. Да, да, и бесхарактерно, и бездарно!
Тем дело и кончилось. Воображаю, какую историю сделал бы из этого на месте немца всякий другой учитель нашей гимназии!
В шестом классе я сделался приходящим. Первым делом было, конечно, одеться, как можно франтоватей. Денег, однако, было немного, и, купив лаковые бальные ботинки, я уже не был в состоянии запастись калошами и, вместо них, приобрел на толкучке огромные синие, самые настоящие нигилистические очки, в которых мог щеголять, разумеется, только вне гимназии. Сам себе я необыкновенно нравился, рассматривая свое отражение, за неимением большого зеркала в квартире, где я жил, в зеркальных стеклах магазинов. Особенно хороши были ботинки, очки и саркастическая улыбка, которую я, в качестве «нигилиста» и «молодого поколения», выработал при помощи тех же магазинных окон. И, вот, однажды я встретился на улице с немцем.
Дело было зимою, в мороз. В моих лакированных ботинках были куски льда, а не ступни. Холодные очки жгли переносицу. Саркастическая улыбка переходила и сардоническую, точно я позавтракал стрихнином. Мы встретились, раскланялись, и вдруг лицо немца выразило неизъяснимое блаженство. Когда мы разминулись, он окликнул меня. Я обернулся.
— Бальные ботинки? — спросил он, утопая в блаженстве.
— Лакированные. Их не нужно чистить, — ответил я.
— И синие очки?
— Синие очки. У меня слабое зрение.
— Ступайте, ступайте! — заторопился немец, и на его лице блаженство сменялось ужасом. — Ступайте! Вы умрете от холода! Трите нос, трите нос!
Моими вольными сочинениями я занялся у немца с великим увлечением. «Грудь моя ширилась, я чувствовал: я мог творить», — мог бы я воскликнуть вместе с Пушкиным. Замыслы, один грандиозней другого, теснились в моем воображении. Я изобразил наступление великого поста в городе, я описал поездку на луга в деревне, я написал юмористический рассказ, как я с лошади вверх ногами упал в корыто, из которого поили лошадей. Мне всё было мало, и я приступил к творению на трех четвертушках, имевшему сюжетом эпизод из последнего польского восстания, о котором у меня сохранились смутные детские воспоминания. Сюжет был обработан, конечно, по пятнадцатилетнему, романтически. Шайка из дюжины человек, бродившая по нашему уезду, подвиги которой кончились тем, что мужики загнали и заперли ее в хлев, превратилась у меня в целую армию. Ома сражается с русской армией, притом по всем правилам пушкинской «Полтавы». — «Бой барабанный, клики, скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон» и т. д. Победили мы, — и следует лирическое место в патриотическом духе, вроде Карамзина, только еще лучше. Предводителя шайки расстреливают. Предводитель, чтобы не нарушить высокого строя моего повествования, ведет себя геройски. Выходит картина вроде гибели Тараса Бульбы, но опять-таки еще лучше. — «Так погиб храбрый поляк, боровшийся за свою отчизну!» — кончает автор и старается написать эту сильную фразу как можно каллиграфичней. Для возможного усиления эффекта она была написана латинским шрифтом, тогда как остальное сочинение было писано готическим.