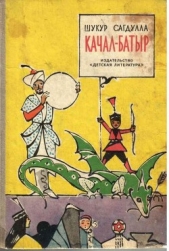По памяти и с натуры
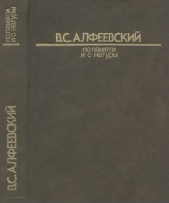
По памяти и с натуры читать книгу онлайн
Видимо, для удобства систематизации в нашем искусствоведении вошло в обычай рассортировывать художников на «шестидесятников», «семидесятников» и так далее. Не помню, чтобы подобная классификация когда-либо была применена к Валерию Сергеевичу Алфеевскому. И думаю, не случайно: Алфеевский — один из тех немногих на поверку художников, кто во все годы сохранял свою независимость, не укладываясь в тот или иной ранжир, один из тех, кому обязаны мы сохранением художественной и культурной преемственности, понесшей неисчислимые утраты в тяжелые времена.
О своих учителях и наставниках, художественном становлении и развитии Валерий Сергеевич и рассказывает в предлагаемых воспоминаниях и очерках, находя простые слова для обозначения сложнейших, глубинных мотивов художественного творчества, тех тайных механизмов, которые художники-практики не умеют назвать, а теоретикам трудно постигнуть. В этом смысле записки Алфеевского соотносятся с традицией дневников Делакруа, писем Ван Гога, переписки Стасова и Верещагина и других документов, позволяющих заглянуть во внутренний мир художника
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иногда поиски выразительного у многих из нас переходили границы художественного, что выражалось в так называемом остранении и часто вело просто к подчеркиванию уродливого.
Мы много говорили об искусстве, и в этом общении рождались и зрелость художника, и его будущий профессионализм. Мы учились друг у друга, и это трудно переоценить.
Я тогда много ходил в гравюрный кабинет Музея изобразительных искусств и в нашу институтскую библиотеку. Копируя Домье и рисунки Рембрандта, старался восполнить недостаток профессиональных знаний, который тогда уже остро ощущал.
Как я уже говорил, многие из нас часто ходили в музеи и много листали репродукций, может быть, в ущерб тому, что могло бы дать более тесное общение с жизнью.
Оценочные критерии в отношении своих работ у нас были очень завышенными. Если, рассматривая работы товарища, мы, скажем, говорили, что они напоминают кого-нибудь немного ниже Рембрандта или Тулуз-Лотрека, это воспринималось чуть ли не как оскорбление. Может быть, в этом была и своя правда. Ставя себе труднодостижимые цели, мы иногда в самой малой степени приближались к подлинному, не давая себе никаких поблажек в виде заниженных критериев, которые могли бы удовлетворить наше самолюбие.
Какими неверными были мои представления о Штеренберге и методах его преподавания, мне пришлось убедиться сразу после первого с ним знакомства.
Многое в художнике Штеренберге мне было чуждо, не все принималось и не все понималось. Этот загадочный тогда для меня художник, такой ни на кого не похожий, привлекал новизной и остротой композиционных замыслов, стремлением к какой-то иной картинности, иногда символического звучания. Материальность его живописи, где фактура и острые предметные характеристики выражались в тонких цветовых построениях, вопреки их кажущейся локальности, особенно привлекала меня.
Штеренберг никого не пытался обратить в свою веру, он обладал редким даром понять возможности и стремления своих учеников, умением воодушевить студента, заставить его поверить в свои силы и привести примеры, способные помочь его работе. Этим объяснялось то часто противоречивое присутствие в мастерской Штеренберга столь непохожих друг на друга учеников, как по их устремлениям, так и по культуре.
Расширился круг интересов, рос интерес ко всему новому, что делалось в искусстве у нас и за рубежом. В то время почти каждую неделю открывались выставки самых различных, непохожих друг на друга художественных объединений и персональные выставки. Выставка современных французских художников в Музее западной живописи оказала на нас большое влияние. На все эти выставки мы ходили, и они сыграли большую роль в формировании нового поколения художников.
В мастерской выполнялись композиции на свободную тему и приобретался вкус к созданию картины. Этюдами у нас почти никто не занимался. Этому способствовала и практика ОСТа.
Впоследствии большая группа нашей мастерской войдет в ОСТ, но мы не будем продолжателями традиций Общества. С нами в искусство ОСТа войдут элементы робкого лиризма, поиски индивидуального, спорного.
Кроме живописи и рисунка, Штеренберг научил нас офорту. Мы довольно легко освоили эту технику. Премудрость заключалась, как мне казалось, в рисунке. Если рисунок хорош, то в оттиске он приобретает неповторимую прелесть, труднодостижимую в других техниках, и наоборот — малейшая слабость рисунка с удивительной внятностью проявляет себя в офорте. С тех пор я полюбил эту свободную технику и занимался офортом иногда с большими перерывами, но всегда вновь возвращаясь к нему.
Жизнь в мастерской проходила довольно дружно, правда, наш небольшой коллектив делился на группы, которые объединялись по сходству интересов к определенным направлениям в живописи, да и по личным симпатиям. Как помню, водку тогда никто не пил.
Лето 1928 года я провел в деревне Захарково, где я написал картину «Карусель». В 1929 году она от ОСТа поехала на нашу выставку в Америку. Вдохновлялся я тогда Гойей и Делакруа. Написал я и несколько пейзажей, пейзажей законченных, как я тогда понимал законченность. В этих пейзажах я пытался передать лирическое содержание полюбившихся мне мест.
В эти годы я сдружился с художником ОСТа Доброковским. Он оказал на меня некоторое влияние, побуждая меня к большей интенсификации выражения, как он любил говорить. С этим я приобрел и некоторый вкус к гротеску.
Весной 1929 года Таня Лебедева, я и Леня Зусман по студенческим командировкам поехали в Ленинград на белые ночи. Устроился в общежитии Академии художеств на Адмиралтейской набережной, в старом особняке с обезглавленными амурами в нишах. У подъезда на приколе трехмачтовый «Крузенштерн». До этого я никогда не был в Ленинграде, и красота его меня поразила, и навсегда. С утра до вечера и ночью тоже мы бегали по набережным и улицам этого фантастического города.
С этой поездки началась моя любовь к городу и его изображению.
Прошел еще один год.
Я много времени уделял рисунку, главным образом по памяти. Это были зарисовки моих впечатлений, рассказы о себе, о природе и повседневной моей жизни. Все это для меня тогда было дорогой в искусство, и я чувствовал себя художником, может быть и несколько преждевременно.
Весной в перерывах между занятиями мы много гуляли по Москве и ее окраинам, которые тогда еще были не тронуты, и я впервые почувствовал вкус к старой русской архитектуре, вкус, который во мне потом еще долго дремал.
Дипломный, девятьсот тридцатый, год был и последним годом Вхутеина. Вхутеин с его славным прошлым, с его, возможно, несколько оторванной от жизни программой пришел к своему концу.
Полным ходом шла ожесточенная «классовая борьба», нападки на «буржуазную» профессуру. Обновленная администрация старалась поскорее прикончить и без того обреченный Вхутеин. Многие из нападок на него были далеко не всегда справедливы. Конечно, его в чем-то абстрактная программа была слишком идеалистична, но нельзя закрывать глаза на то ценное, что было в этой неповторимой школе: дух творческого бескорыстия и соревнования, забота о форме, которая делает окружающий нас мир драгоценным.
Мы, пожалуй, много спорили об искусстве и мало работали, и об этом я сожалею. Можно было большему научиться, но и за то, что я получил, я испытываю к Вхутеину глубокую благодарность.
И вот кончились годы учения, впереди была длинная и трудная дорога с тупиками и распутьями, долгие годы запоздалого ученичества, и все же Вхутеин для меня остался тем компасом, который позволял найти свой путь.
Художник Леонид Зусман
На смерть друга
Весной двадцать седьмого года Леня Зусман, студент ленинградской Академии художеств, перевелся во Вхутеин в мастерскую Штеренберга.
Поначалу держался развязно, танцевал чечетку с пошибом «братишки» с Кронвергского. Все это от смущения. Потом освоился, пригляделся, потом сдружились на всю жизнь.
В дружбе нашей бывали большие перерывы, когда мы не виделись по многу лет, но каждый раз было ощущение, что мы не расставались.
Как-то в начале нашего знакомства Леня пригласил меня и Таню Лебедеву в гости. Жил он тогда на Полянке в старом двухэтажном доме, на первом этаже. Окна в глубоких амбразурах, как в крепости. Совсем неожиданно квартира буржуазная, кухня облицована голландским кафелем, красная мебель и полуслепой ульмский дог, доживающий второй десяток. В книжном шкафу мирискусники с дарственными его отцу надписями. Было уютно и весело, пили еще по-детски чай с пирожными.
Показал нам свои ленинградские работы. Особенно понравился и запомнился мне красивый заснеженный пейзаж, вид из окна Академии на мост Лейтенанта Шмидта.
Вдохновенно читал нам «Возмездие» Блока, взволнованно и убежденно произносил:
Потом читал еще Ронсара и Вийона.