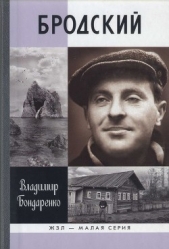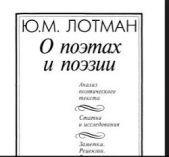Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]
![Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/125908/125908.jpg)
Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями] читать книгу онлайн
Бенгт Янгфельдт — известный шведский писатель, ученый, автор многочисленных трудов по русской культуре, переводчик и издатель. Он выпустил впервые на русском языке переписку В. Маяковского и Л. Брик, написал книги о Маяковском и о выдающемся лингвисте Романе Якобсоне, недавно подготовил исторический труд о Петербурге. А еще Бенгт Янгфельдт был издателем и основным переводчиком на шведский Иосифа Бродского. Они часто встречались на протяжении многих лет, так как, став в 1987 г. Нобелевским лауреатом, поэт приезжал в Швецию каждое лето, найдя здесь, по его словам, «экологическую нишу — тот же мох, тот же гранит, тот же климат, те же облака», что и на вынужденно покинутой родине.
* * *
Это книга, которую должны обязательно прочесть не только те, кто интересуется Иосифом Бродским, но также те немногие, кто интересуется поэзией. — Dagens Nyheter
* * *
Книга имеет скромный подзаголовок «Заметки об Иосифе Бродском», но именно благодаря ненавязчивости подхода, а также открытости автора к пониманию поэта, она помогает читателям глубже разобраться в противоречиях его характера и мышления. — Svenska Dagbladet
* * *
Бенгт Янгфельдт — шведский писатель, ученый-славист, переводчик русских поэтов (В. Маяковского, О. Мандельштама и др.), лауреат премий Фонда культуры Лэнгмана, Шведской академии и дважды лауреат премии Стриндберга («шведского Букера»). А еще Б. Янгфельдт был многолетним другом, переводчиком и издателем И. Бродского. Эта книга, по словам автора, — «заметки о большом поэте и противоречивом человеке», знакомство с которым дало возможность увидеть важнейшие черты его личности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иногда этот сдержанный голос приписывается Музе, то есть самому языку, как в этой парафразе стихотворения Ахматовой:
Поэт не поет, как птица, но он и не нем как рыба:
Голос такой приглушенный, что чуть не стирает границы между звуком и тишиной; ближе к ритму Времени трудно подойти. Как и у Туллия, идеал — как можно больше уподобить себя времени; но если у Туллия есть только один способ для достижения этой цели — с помощью снотворных спать побольше, — поэт может манипулировать Временем с помощью размера и ритма. Интонационной нейтральности, к которой стремится Бродский, лучше всего соответствует акцентный стих или амфибрахий. Последний его привлекает тем, что «в нем присутствует монотонность. Он снимает акценты. Снимает патетику. Это абсолютно нейтральный размер… Повествовательный. И повествует он не то чтобы с ленью, но с каким-то неудовольствием по отношению к процессу. В этом размере — интонация, присущая, как мне представляется, времени как таковому».
Таким образом, поэт может создать новое время, которое подобно самому Времени. Однако слияние со Временем — не только эстетическая цель, не только способ выживания для стиха, оно имеет для Бродского более глубокое экзистенциальное значение. Так как настоящее (жизнь) является коротким отрезком времени между прошлым и будущим, лучше уже сейчас привыкнуть к тому, что будет. Речь идет опять-таки о «бомбе замедленного действия», разрушительном средстве, которое является и более эффективным и более неизбежным, чем что-либо другое. «В нашем будущем, как бы брегет ни медлил, — утверждается в стихотворении „Полонез: вариация“, —
«Пытайся имитировать время, — любил цитировать Бродский греческого эпиграмматика Леонида Тарентского, — но не горюй, если тебе не удастся, ибо, когда умрешь, будешь им» [6].
Взгляд Бродского на язык как на некую вневременную, внепространственную, чуть ли не метафизическую величину вызывал сильные возражения. Одним из его оппонентов стал южноафриканский писатель, лауреат Нобелевской премии Дж. М. Кутзее, который в рецензии на сборник эссе Бродского «О скорби и разуме» («On Grief and Reason», 1995) главной мишенью выбрал его философию языка. Статья была напечатана в «New York Review of Books» от 1 февраля 1996 года, через четыре дня после смерти Бродского, — но, будучи подписчиком, он получил журнал заранее и таким образом успел ознакомиться с текстом. Он был глубоко задет — и не только из-за критики, но и потому, что был большим поклонником творчества Кутзее, которого не раз выдвигал на Нобелевскую премию и которого упоминал в эссе о Стивене Спендере («Памяти Стивена Спендера», 1995), вошедшем в тот самый сборник, который раскритиковал Кутзее.
Кутзее высоко оценивает стихотворные разборы Бродского, «всегда умные, часто проницательные, иногда совершенные», написанные на том уровне, где находится только человек, который «живет с великими поэтами прошлого и от них» и которого самого, «возможно, посещает Муза». Особо он выделяет эссе о Марке Аврелии («Дань Марку Аврелию», 1994) и Горации («Письмо Горацию», 1995), где назидательный тон, различимый в текстах, основанных на лекциях и докладах, заменен беседой с равными: «Его проза достигает новых многосоставных горько-сладостных тонов, когда он раздумывает о смерти поэта, о гибели человека и его продолжении в эхе стихотворных размеров, которым он служил».
Однако похвалы занимали не слишком много места в его отзыве о новом сборнике эссе, который Кутзее нашел менее убедительным, чем «Меньше единицы» («Less Than One», 1986). По мнению Кутзее, только эссе о Марке Аврелии и Горации означают «явное развитие и углубление мыслей Бродского», тогда как другие носят более «случайный характер». Кроме того, то, что «в ранних эссе казалось случайной причудой, оформилось теперь в опорные столбы систематической философии языка Бродского». Именно ей Кутзее посвящает главную часть своей критики.
Исходным пунктом он выбирает анализ стихотворения Томаса Гарди «The Darkling Thrush» («Дрозд в сумерках»), где, согласно Бродскому, «язык втекает в человеческую область из реальности не-человеческих правд и зависимостей [и] в конце концов является голосом неорганического вещества». То, что здесь именуется «неорганическим веществом», заключает Кутзее, это то, что в других эссе Бродского называется голосом языка, или поэзии, или определенного стихотворного размера. Здесь Бродский приближается к «типу редукционной культурной критики, которая утверждает, что говорящие лишь немногим больше, чем рупоры доминирующих дискурсов или идеологий». Разница в том, что последняя «имеет базу внутри истории», тогда как «мысль Бродского сводится к тому, что язык… является метафизической силой, оперирующей временем и внутри времени, но вне истории». В качестве примера он приводит взгляд Бродского на поэзию как на «хранилище времени».
Возведение просодии в статус метафизики Кутзее рассматривает как «странность, едва ли не причуду». Бродский утверждает, что стихотворные размеры «сами по себе являются своего рода духовными и незаменимыми величинами», «способом реорганизовать время». Но удовлетворительного ответа на вопрос, что такое «реорганизовать время», Кутзее у Бродского не находит. В лекции «Нескромное предложение» (см. стр. 146) (в электронной книге — разд. II, глава Просветитель. — Прим. верстальщика.) Бродский пишет, что стихи Фроста «No memory of having starred / Atones for later disregard / Or keeps the end from being hard» («Никакая память о звездном часе / Не утешает потом, в забвении, / И не делает конец менее горьким») должны войти «в плоть и кровь каждого гражданина».
Кутзее предлагает эксперимент: «No memory» он предлагает заменить «memories», что ритм меняет незначительно, но смысл — кардинально. Заслуживали бы эти строки и тогда стать частью кровообращения? Конечно же нет — ибо они ложные. Для того чтобы доказать, почему и каким образом они ложные, нужно, однако, исходить из исторической поэтики, которая объяснила бы, почему строки Фроста реорганизуют время, а пародия на них — нет. «Такая поэтика должна была бы, — подытоживает Кутзее, — трактовать просодию и семантику вместе и исторически. Трудно утверждать, что хорошее стихотворение реорганизует время, если ты не можешь объяснить, почему плохое стихотворение не делает этого».
«Я никогда не мог до конца принять идолизацию языка, которая свойственна Бродскому», — говорит Лев Лосев, объясняя ее «отсутствием формального образования, в частности, лингвистического». Мысль о языке как феномене, имеющем свою внеисторическую реальность, родилась у Бродского в годы изгнания. Евгений Рейн высказал гипотезу, что язык стал для Бродского субститутом — лучшим субститутом — той реальной России, которую он был вынужден покинуть. «Заменой этой России и выступил язык — как наиболее концентрированная, очищенная и избавленная от иногда гнетущей реальности, как лучшая маска России».