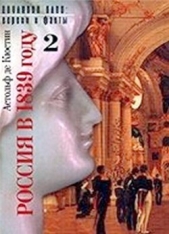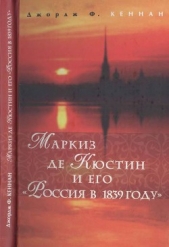Россия в 1839 году

Россия в 1839 году читать книгу онлайн
Настоящее издание — первый полный перевод на русский язык знаменитой книги маркиза де Кюстина, до этого печатавшейся в России лишь в отрывках или пересказах. Перевод сопровождается подробным комментарием, разъясняющим культурно-исторические, литературные и политические реалии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В последние недели Террора прежних служителей тюрьмы, где томилась матушка, заменили люди куда более свирепые; им-то и предстояло расправиться с узниками. Они не скрывали от жертв своих планов; тюремный распорядок ужесточился, посетителей к заключенным больше не допускали, родные не осмеливались посылать им передачи; наконец, узникам запретили выходить во дворы и сады — там рыли для них могилы; по крайней мере в этом уверяли тюремщики; каждый звук, доносившийся издали, каждый шорох, долетавший со стороны города, казался обреченным людям сигналом к бойне, каждую ночь они считали последней.
Тревоги их прекратились лишь с падением Робеспьера. Приняв в расчет это обстоятельство, нельзя не отвергнуть предположения некоторых чересчур изощренных историков Террора, утверждавших, что Робеспьер пал только оттого, что был лучше своих противников. В самом деле, сообщники его сделались ему врагами лишь после того, как начали бояться за собственную жизнь; их главная заслуга состоит в том, что они вовремя испугались и, спасая себя, спасли Францию, которая, осуществи Робеспьер свои намерения, непременно превратилась бы в логово диких зверей. Переворот 9 термидора был заговором бандитов,(83) бунтом разбойников — согласен, но разве становится главарь банды порядочным человеком оттого, что сообщники однажды взбунтовались и прикончили его? Ложное великодушие ведет к неправому суду; это — опасное чувство, ибо, соблазняя добрых людей, оно заставляет их забыть о том, что порядочный человек должен ставить правду и справедливость превыше всего.
Говорят, что Робеспьер от природы не был жесток, — какая разница? Робеспьер — сама зависть, получившая абсолютную власть. Зависть эта, плод заслуженных унижений, какие аррасский чиновник (84) испытывал при старом порядке, внушила ему идею мести — идею столь ужасную, что, даже зная, какая подлая была у него душа и какое каменное сердце, мы с трудом можем вообразить себе воплощение этой идеи. Робеспьер производил арифметические действия с целой нацией, прилагал алгебру к политическим страстям, писал кровью, считал отрубленными головами — и Франция безропотно сносила все это. Хуже того, сегодня она внимательно выслушивает ученых мужей, ухитряющихся оправдывать подобного человека!!(85) Он не брал чужого… но и тигр убивает не только тогда, когда хочет есть. Робеспьер не был жесток, говорите вы, он не наслаждался зрелищем пролитой крови — но он проливал ее, а это самое страшное. Пусть тот, кто хочет, изобретает новый термин для обозначения обдуманного политического убийства, главное — навсегда заклеймить эту чудовищную добродетель. Извинять убийство тем, что делает его особенно отвратительным, — хладнокровием и расчетливостью убийцы — значит соучаствовать в одном из тягчайших преступлений нашей эпохи, извращении человеческого разума. В наши дни, повинуясь ложной чувствительности, люди беспристрастности ради ставят на одну доску добро и зло; дабы лучше устроиться на земле, они разом отменяют и небеса, и преисподнюю! Дошло до того, что наше поколение почитает преступлением одну-единственную вещь — осуждение преступника, восхищается только одним — отсутствием убеждений. Ведь иметь собственное мнение — значит погрешить против справедливости… не суметь понять другого человека. А нынешняя мода велит понимать всех и вся.
Вот до каких софизмов довело нас так называемое смягчение нравов, смягчение, представляющее собой не что иное, как величайшую нравственную неразборчивость, глубочайшее отвращение от религии и постоянно возрастающую жажду чувственных наслаждений… Впрочем, терпение!! Человечество знавало и времена куда более страшные. Через два дня после 9 термидора почти все парижские тюрьмы опустели.
Госпожа де Богарне (86), приятельница Тальена, вышла на свободу немедленно и была встречена с превеликим почетом; вернулись домой госпожа д'Эгийон (87) и госпожа де Ламет,(88) о матушке же забыли, и она осталась в почти полном одиночестве в бывшем кармелитском монастыре, утратившем к этому времени даже свою страшную славу. На глазах матушки ее благородные товарищи по несчастью сменяли у кормила власти зачинщиков Террора, а те, благодаря происшедшим в политике переменам, заполняли тюрьмы, где еще недавно томились их жертвы. Утверждая, что их цель — отмщение тиранам, якобинцы научили быть тиранами всех французов, и теперь гибли, сраженные своим собственным оружием. Все родственники и друзья матушки покинули Париж; не нашлось никого, кто бы протянул ей руку помощи. Жером, в свой черед объявленный преступником как соратник Робеспьера, вынужден был скрываться от властей и не мог позаботиться о своей бывшей подопечной.
Так, всеми покинутая, страдая едва ли не сильнее, чем в ту пору, когда ей ежедневно грозила смертная казнь, матушка провела два ужасных месяца; она не раз говорила мне, что эти два месяца были самым тяжким из всех выпавших ей на долю испытаний. Меж тем политические партии продолжали борьбу; власть вот-вот могла вновь перейти в руки якобинцев. Если бы не мужество Буасси д'Англа, убийство Феро подало бы сигнал к началу нового Террора, гораздо более страшного, чем предыдущий;(89) матушка знала все это, ибо страшные известия доходят до узников без промедления. Она мечтала увидеться со мной; я был при смерти: няня отвечала, что я болен; матушка плакала и горевала. Наконец, выходив меня и видя, что о моей матери все забыли, Нанетта решила позаботиться о ней сама. На бульваре Тампль находилась в ту пору фарфоровая мастерская богача Диля; сюда поступили полсотни рабочих, трудившихся прежде на фарфоровой мануфактуре моего деда в Нидервилле. Великолепная эта мануфактура долгое время позволяла зарабатывать на жизнь множеству вогезцев; после того как ее конфисковали вместе с остальным имуществом генерала Кюстина, производство остановилось; тех из рабочих, которые отправились в Париж, нанял Диль. Среди них был и Мальриа, отец Нанетты. К этим-то людям, в ту пору пребывавшим на вершине власти, моя няня пришла с просьбой позаботиться об их бывшей хозяйке. В годы Революции рабочие часто слышали имя молодой госпожи де Кюстин; впрочем, память о ней и без того жила в их сердцах. Рабочие охотно поставили свои подписи под прошением, сочиненным Нанеттой, говорившей и писавшей на том французском, какой в ходу у лотарингских немцев, после чего моя няня самолично отнесла эту бумагу к бывшему мяснику Лежандру(90), возглавлявшему в ту пору канцелярию, куда поступали все прошения касательно заключенных, обращенные к коммуне города Парижа.
Бумагу приняли и бросили в шкаф, где уже пылились сотни подобных прошений. Никто и не подумал ее прочесть — а ведь от этого зависела человеческая судьба!!!
Однажды вечером трое молодых помощников Лежандра, Россинье и двое других, чьих имен я не помню, явились в полутемную канцелярию и, будучи слегка навеселе, принялись бегать наперегонки, прыгать по столам, бороться, — одним словом, творить всякие безумства. Разыгравшись, они сильно толкнули шкаф, и оттуда посыпались разные бумаги; Россинье поднял одну из них.
— Что это у тебя? — спросили Россинье приятели.
— Прошение, конечно, — отвечал он.
— Это понятно, но за кого? Шалопаи позвали слугу и приказали принести лампу. Ожидая его возвращения, они смеху ради поклялись тем же вечером заставить Лежандра подписать попавшее им в руки прошение и немедленно сообщить узнику радостную весть об освобождении.
— Клянусь, что я его выпущу, будь он сам принц Конде, — сказал Россинье.
— Давай-давай, — захохотали в ответ его приятели, — тем более что принц Конде не арестован.
Наконец друзья прочли прошение — это оказалась бумага, сочиненная Нанеттой и подписанная рабочими из Нидервилле. Позже участники этой сцены сами пересказали ее во всех подробностях моей матери.
— Какое счастье! — вскричали молодые люди. — Это красотка Кюстинша, вторая госпожа Ролан!(91) Мы втроем вызволим ее из тюрьмы. Тем временем Лежандр, ничуть не более трезвый, чем его помощники, возвращается в час ночи к себе в контору; три шалопая подсовывают пьянице прошение, от которого зависит судьба моей матери, и он ставит на нем свою подпись, после чего трое юнцов отправляются в бывший кармелитский монастырь(92) и в три часа ночи стучат в дверь комнаты, где матушка в ту пору обитала в полном одиночестве.