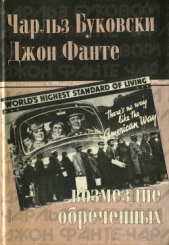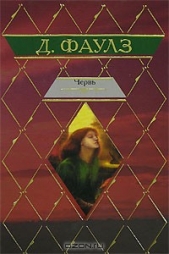Дневники Фаулз
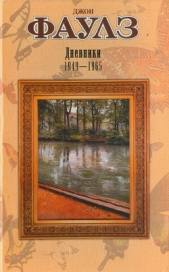
Дневники Фаулз читать книгу онлайн
История жизненного и творческого пути Джона Фаулза, рассказанная им самим.
Странствия по Европе и страстная, трудная любовь к замужней женщине…
Ранние стихи, пьесы и рассказы…
Возвращение в Англию — и начало становления Фаулза как писателя…
Вот лишь немногое, о чем повествует первый том «Дневников» Джона Фаулза, книги, которую по достоинству оценили и самые авторитетные критики, и читатели.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
2 декабря
Маколей (о письмах жены сэра У. Темпла Дороти Осборн): из такого ряда любовных писем черпаешь больше истории, больше жизни, больше знаний об обществе, чем из целых баулов дипломатических депеш [618]. Везет же Маколею!
«Коллекционер». Начал это неделю назад. Не писать о себе — освежает. Коллекционер — это само по себе призвано символизировать заурядность нынешнего общества; стреноженный по рукам и ногам, чьи надежды и подлинная жизненная сила бессмысленно и зловеще затухают.
Заискивание вот главное ремесло этого века. В Англии воцарился Век заискивания. Особенно заметно это на Би-би-си: все и каждый пытаются нравиться, нравиться, нравиться.
С'est ou l'art ou l'amour [619] строка, всплывшая в моей памяти, когда Э. мыла мне голову.
17 декабря
Э. уходила счастливой, вернулась расстроенной. Рой не позволил ей повидаться с Анной перед Рождеством. По ее словам, он был пьян и в самом мерзком из своих настроений: его мелочность достигает поистине космических масштабов.
23 декабря
Записываю новые стихи. Странно, какая грустная у них интонация. Мне невесело, грусть у меня в крови, однако когда я говорю, мой голос не кажется мне грустным. Чтение стихов — хорошая терапия; так проверяется внутренний слух. Правда, я не так уж о нем думаю, когда пишу: меня больше заботит, как фразы разместятся на странице. Но эти стихи кажутся достаточно ритмичными. Некоторые даже подозрительно нравятся. Не доверяю нарциссистическому благозвучию, обеспечиваемому магнитной лентой. На ней даже моя игра на гитаре кажется недурной — а ведь я знаю, что бренчу безнадежно плохо.
Римляне, одержимые темой Орфея, играющего на арфе в аду. прекращением страданий, покоем и умиротворением, приходящими с его мелодией. Целительная мощь искусства. Можно, разумеется, пожалеть, что античным интеллектуалам неведомо было многое из того, что известно нам; однако будь это так, Древний Рим превратился бы в ад несравнимо более страшный, нежели тот, что им было под силу вообразить. К тому же мы забываем, что незнание двусторонне — я не имею в виду то незнание мелких деталей, на которое от века жалуются историки (о, будь я в силах провести хоть час в древних Афинах), но то глубочайшее незнание, какого не развеют и десять лет, прожитые в древних Афинах. Незнание того, чем была жизнь в те времена — жизнь, постичь которую можно было лишь проникшись античным умом и ничем другим.
Мы часто заблуждаемся, полагая, что тонко чувствующие люди — принадлежность наших дней. Но такие индивидуумы, как Катулл, или Гораций, или Марциал, не менее чувствительны, нежели любой современный интеллектуал; просто износилась — не без постоянного вмешательства с нашей стороны — сама образность их чувствительности, даже оболочка этой образности, иными словами, эта образность перестала быть зеркалом их чувствительности. В итоге Катулл временами кажется простоватым, Гораций — слишком академичным, Марциал — чуть колючим. Я хочу сказать, их стихи напоминают выцветшие страницы — нет, тронутые ветрами времени статуи. Конечно, в этом и определенная доля их привлекательности: очарование древности, но прежнее воздействие утрачено навсегда. И огромная часть этого воздействия апеллирует к сферам (или образам), кажущимся нам наивными — вроде Орфея, играющего в аду. К необъятному, таинственному, не нашедшему объяснения миру, предстающему — даже самому утонченному интеллектуалу — волшебным, неуправляемым, диким, новым; в Древнем Риме не было уличных фонарей. А то, что в нем упорядочено: меры веса, ведомая грекам соразмерность архитектурных пропорций, — должно быть, представало его обитателям (даже такому относительно утонченному уму, как Гораций) со столь значимым отпечатком божественного промысла, какой нам не под силу вообразить. С нашей точки зрения, «amatilis insania» всего лишь невнятный звук — «приятное безумие», как подсказывает мой шифровальный ключ; но, по сути, это сочетание непереводимо, ибо к самой магии вдохновения современный мир относится не иначе как с презрением. Вся эта ода (3.4) — хороший пример того, сколь недоступен нам древний ум [620]. Тщетно пытаться постичь его тайны, прибегая к инструментарию английского языка, к посредству елизаветинских и более поздних переводчиков. Это то же самое, что исполнять произведения западных композиторов на восточных музыкальных инструментах.
(Читаю сейчас много латинских стихов. Если бы только кто-нибудь объяснил мне, как должны были читать и декламировать римляне! Учебники никуда не годятся!)
2 января 1961
Рождество отметили в Ли. Я так этого боялся, что на поверку все оказалось не столь уж тягостным (может быть, мы всегда чего-то чрезмерно опасаемся?). Стряпня М. хороша и сверхобильна, как обычно. Однако портвейн 1920 года и сигара 1933-го доставили мне несомненное удовольствие; где-то я прочел, что век сигары краток — спустя восемнадцать месяцев они портятся, — но эта оказалась еще очень душистой. Бездна аромата. М. по-прежнему безраздельно господствует в застольной беседе; я отмалчиваюсь, а Э. тактично и послушно ее поддерживает. Мы оба испытываем нечто вроде симпатии к О. — человеку во многих отношениях предсказуемому, но не чуждому неких романтических глубин. Говорим с ним о яблоках, вспоминаем названия забытых сортов, разыскиваем их в его книжках; это целый волшебный мир, мир яблок, чьи разновидности можно проследить вплоть до конкретных мест и людей, подчас даже до одного определенного дерева. Самая амбициозная из моих фантазий (похоже, и О.) — однажды проснуться обладателем огромного плодового сада, настоящего музея всевозможных сортов яблок, чего-то вроде новоявленного сада Гесперид. Яблоко — магический плод: поедая один из отцовских «коксов» и поздний «джеймс грив», чувствуешь, что поглощаешь нечто среднее между отличной дыней и спелым персиком, и начинаешь мечтать еще об одной волшебной субстанции — вине. Иными словами, и лучшим сортам яблок, и лучшим винам присуще нечто общее — гармония.
6 января
Эшкрофт в «Герцогине Амальфи»: возможно, не самая идеальная кандидатура на роль, но исполнение идеально [621]. В 53 года выглядит на 33, не больше, порой на 23; и в очередной раз демонстрирует, что ей — единственной из всех ныне живущих английских исполнительниц — присуща необыкновенная очищающая сила. Каждый раз, когда ее вижу, убеждаюсь, что она великая актриса — в том смысле, в каком великими были Сиддонс, Кембл и Дузе. Она не уступает им в величии, ибо величие актерской игры оцениваешь, целиком отдавшись впечатлению; увы, в наше время мы так не реагируем (это не принято): нас подавляет избыток эмоций. Ну, я говорю «нас»; единственное, что удержало меня от того, чтобы громко всхлипнуть или разразиться слезами в момент, когда она произносила большой предсмертный монолог («геометрические петли»), — страх нарушить гробовое молчание (в одном месте я закрыл глаза: с таким же успехом я мог бы сидеть в пустом зрительном зале один на один с ее голосом). Помню, однажды, читая лекцию о театре, я цитировал байроновское описание игры Кина в «Макбете», его судороги, голоса актеров, тонувшие в рыданиях потрясенной театральной публики. Но, разумеется, великая актерская игра должна производить именно такое впечатление — в любом другом случае исполнитель (или его аудитория) подавляет нечто важное. В профессиональном смысле Эшкрофт — в высшей степени изощренная актриса, у нее прекрасный чистый голос; в моменты наивысшего подъема он становится человеческим голосом; конкретной эмоции, обусловленной конкретной ситуацией — даже столь неестественной, как уэбстеровская, — она сообщает интонацию всеобщности.
Отнюдь не стремлюсь критиковать Уэбстера: эта пьеса не хуже шекспировских, и, к чести Уэбстера, Ш. вряд ли смог бы осилить ее интригу и реплики. Образность Уэбстера тоньше, мрачнее, напряженнее шекспировской. Э. говорит, что не может проникнуться духом пьесы: «ведь она ее не знает». Временами думаешь: хорошо было бы Ш. не существовать вовсе.