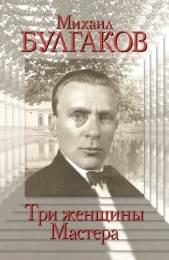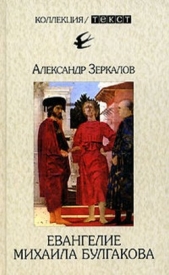Жизнеописание Михаила Булгакова

Жизнеописание Михаила Булгакова читать книгу онлайн
Первая научная биография выдающегося советского писателя М. А. Булгакова — плод многолетней работы автора. Множество документов, свидетельств современников писателя дали возможность автору не только скрупулезно воссоздать вехи жизни Булгакова, но и его творческий облик. Книга написана в яркой художественно-публицистической манере. Жизнь писателя дается на широком историческом фоне эпохи, ее литературной и социальной жизни.
Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что вы пишете сейчас?..
— Ничего, Константин Сергеевич, устал.
— Вам нужно писать.. Вот тема, например: некогда все исполнить и быть порядочным человеком.
Потом вдруг испугался и говорит:
— Впрочем, вы не туда это повернете!» Но тут же и добавил: «Я бы сам тоже не туда повернул».
Останавливает секретарь парткома театра:
«— Нужно бы нам поговорить, Михаил Афанасьевич!
— Надеюсь, не о неприятном?
— Нет! О приятном. Чтобы Вы не чувствовали, что вы одинокий.
Разговор с Афиногеновым.
— Михаил Афанасьевич, почему вы на съезде не бываете? (в эти дни идет Первый съезд писателей. — М. Ч.).
— Я толпы боюсь.»
Как раз накануне разговора с Афиногеновым появилось в газетах выступление Вс. Иванова (драматургическая судьба которого пересеклась с судьбой Булгакова во МХАТе еще в 1927—1928 гг.). Вспоминая начало 1920-х годов и декларацию «Серапионовых братьев», к которым принадлежал он сам («мы — против всякой тенденциозности в литературе»), Вс. Иванов говорил теперь на съезде: «Я утверждаю, что все без исключения подписавшие и сочувствовавшие декларации «Серапионовых братьев» <...> (среди них — широко известные к тому времени писатели К. Федин, М. Зощенко, В. Каверин. — М. Ч.) прошли за истекшие 12 лет такой путь роста сознания, что не найдется больше ни одного, кто со всей искренностью не принял бы произнесенной тов. Ждановым формулировки, что мы за большевистскую тенденциозность литературы. <...> Совсем недалеко от нас стоит старый капиталистический мир. И мы гордимся тем, что наша все более растущая партийность заставляет нас, научает нас, поддерживает нас в том ожесточении и в той непрерывной злобе, с которой мы смотрим на этот древний мир». Через несколько дней, 28 августа в газете «Труд» появилась статья Ю. Олеши «Слово драматургам!» с подзаголовком «Из блокнота делегата съезда». «Сегодня за столом президиума сидят драматурги, — писал он. — Автор «Хлеба» — Киршон. Автор «Страха» — Афиногенов. Автор «Моего друга» — Погодин. Автор «Любови Яровой» — Тренев. Мастера советской драматургии. Можно обсуждать качество тех или иных технологических приемов того или иного автора, можно оценивать их по-разному, но главное неоспоримо: все эти мастера создают советскую драматургию». Сам Олеша уже несколько лет бился над воплощением замысла пьесы о писателе, в которой, как он писал, публикуя фрагмент пьесы, хотел «обсудить вопрос о творчестве». Центральный герой пьесы, Модест Занд, мечтал «быть писателем восходящего класса», но не знал, как отказаться «от целого ряда тем», которые «быть может, и замечательные, но для нашего времени ненужные». Эта внутренняя борьба, составлявшая сердцевину характера героя, преследовала и самого автора пьесы—и мешала ему завершить ее. Вообще же с самого начала тридцатых годов тема творчества, тема художника приобрела особое значение: «Но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой косности косней?» — писал в эти годы Пастернак о творческой способности как о жизненной проблеме. Обращение к этой теме Булгакова — и в пьесах, и в том романе, который пишет он, главу за главой, начиная с 1932 г. — не было фактом индивидуальной писательской биографии.
Разница была в том, что по складу своей творческой личности и социального мироощущения Булгаков оставался чужд той разъедающей творчество рефлексии, которая помешала, скажем, Олеше, завершить ряд своих замыслов. Гораздо острее, чем внутренние, Булгаков ощущал помехи внешние — вот почему мы не знаем в его творческой биографии работ, не завершенных из-за причин внутренних: будучи начатой, каждая его работа неуклонно продвигается к завершению.
Вернемся, однако, к съездовским дням. Удача тех драматургов, о которых писал в своем «блокноте делегата» бывший сотоварищ по «Гудку» Олеша, еще раз предстала перед Булгаковым со всей очевидностью и не могла, пожалуй, оставить его равнодушным (о его пьесах Олеша не вспомнил, что было по-своему естественно: на сцене шли только «Дни Турбиных»; «Мольер» вяло репетировался; судьба «Блаженства» повисла в воздухе). Быть может, атмосфера съезда в какой-то степени действовала на его состояние и подтолкнула зарождение новых драматургических замыслов. В тот же самый день, когда происходил разговор с Афиногеновым, у Булгакова возникает план пьесы о Пушкине и решение пригласить в соавторы — для разработки материала — Вересаева: он испытывал к нему благодарность «за то, — как записывала Елена Сергеевна, что тот в самое тяжелое время сам приехал к М. А. и предложил в долг денег».
Имя Вересаева уже прозвучало на съезде — в речи И. Г. Лежнева, произнесенной 21 августа.
Бывший редактор «России» цитировал ряд печатных высказываний писателей, относящихся к тому самому 1925 году, когда он печатал «Белую гвардию», незадолго до его высылки: «В. Вересаев: „Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литературы. Мы не можем быть сами собой. Нашу художественную совесть все время насилуют. Наше творчество все больше становится двухэтажным — одно мы пишем для себя, другое — для печати». Иван Новиков: «<...> Писателю не надо мешать, ибо здесь самые благие побуждения руководства именно только мешают». Покойный Андрей Соболь, — продолжал оратор, — отражая настроение многих беспартийных единомышленников, писал: «Опека и художественное творчество — вещи несовместимые. Гувернеры нужны детям, но гувернеры при писателе — это более чем грустно». Лежнев комментировал: «Эти выступления говорят сами за себя. Выставленные четырьмя писателями „общедемократические" требования заимствованы из меньшевистско-зссеровско-кадетского политического обихода». Это был прямой донос на живых и на мертвых.
Между тем, гувернерство к тому времени приняло формы, мало известные не посвященным. Один из организаторов съезда И. И. Гронский рассказывал нам (в начале 1980-х годов), что писатели, находящиеся под наиболее пристальным вниманием власти (их было немного), были «поделены» между членами Политбюро и такими доверенными лицами, как сам Гронский: «К каждому писателю было прикреплено несколько членов Политбюро. К Горькому — Сталин, Молотов, я и еще двое, к Демьяну Бедному — Ворошилов и я. Очень серьезная, трудная работа. О ней никто не знает и пока еще не время об этом говорить».
«... — А как вообще себя чувствуете?» — проявлял интерес Афиногенов в том же разговоре.
«М. А. рассказал ему случай с паспортами.
Афиногенов:
— Как бы вас залучить ко мне?
— Нет, уж лучше Вы ко мне. Я постоянно лежу». И в этот же самый день Елена Сергеевна записывает, что у Булгакова возник план пьесы о Пушкине и что он считает необходимым пригласить Вересаева для разработки материала. «М. А. испытывает к нему благодарность за то, что тот в тяжелое время сам приехал к М. А. и предложил в долг денег».
28 августа приехал заместитель директора кинофабрики, только что принимавший их в Киеве; почувствовав себя плохо, остался у них ночевать. «М. А. пошел с Колей Ляминым к Поповым», а Елена Сергеевна с гостем «проговорили до рассвета о М. А.
— Почему бы М. А. не принять большевизма?.. Сейчас нельзя быть аполитичным, нельзя стоять в стороне, писать инсценировки...
— Почему-то говорил что-то вроде: — Из темного леса... выходит кудесник (писатель М. А.) и ни за что не хочет перед большевиками песни петь.
М. А. вернулся с дикой мигренью <...> лег с грелкой на голове и изредка вставлял свое слово. Был пятый час утра».
В это время в Москве гостили американские исполнители пьесы «Дни Турбиных», режиссер Вельс пригласил Булгаковых в гости; он жил на Волхонке, во флигеле во дворе. 31 августа Елена Сергеевна описывала этот вечер с деталями, обратившими ее внимание, но эти неоднократные рауты нескольких последующих лет не оставались и вне поля творческого внимания Булгакова, работавшего над страницами романа о дьяволе. «Стеариновые свечи. Почти никакой обстановки. На столе — холодная закуска, водка, шампанское. Гости все уже были в сборе, когда мы пришли. Американский Лариосик — румяный толстяк в очках, небольшого роста. Алексей — крупный американец, славянского типа лицо. Кроме них — худенькая американская художница и двое из посольства Буллита. Жуховицкий, — он, конечно, присутствовал (Эммануил Жуховицкий, переводчик пьес Булгакова, постоянно появляется в его доме с начала 30-х годов и нередко по собственному почину. — М. Ч.), — истязал М. А., чтобы он написал декларативное заявление, что он принимает большевизм. Была одна дама, которую Жуховицкий отрекомендовал совершенно фантастически по своему обыкновению: