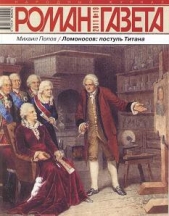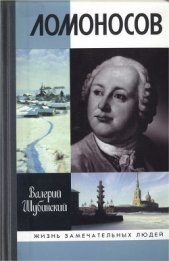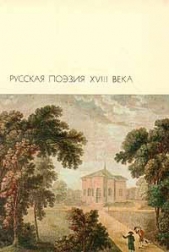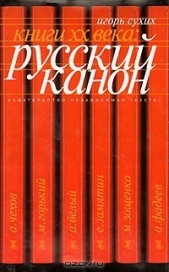Ломоносов
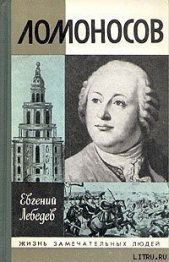
Ломоносов читать книгу онлайн
Книга во многом по-новому излагает обстоятельства жизни и творчества великого русского просветителя, ученого и поэта Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Автор показывает гениального сына нашего отечества в неразрывной связи с предыдущей и последующей судьбой российской культуры и просвещения, его глубокую самобытность, всестороннюю блистательную одаренность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Академики, обсудив ситуацию, предложили Шлецеру представить «План всем упражнениям, которые при Академии отправлять может». Он менее чем через неделю подал требуемое. План Шлецера состоял из двух разделов, которые не столько даже систематизировали круг его интересов в русской истории, сколько обозначали необходимые этапы ее научного освоения. Это была в полном смысле слова исследовательская программа. Первый этап должно было целиком посвятить работе над источниками и прежде всего над летописью, а потом уже над иностранными свидетельствами о России и русских. Русское источниковедение — это совершенно невозделанное поле, и обрабатывать его — «это не значит продолжать то, на чем другие остановились, это значит начинать сначала». Русская летопись в основе своей — это Нестор. Все остальные летописные свидетельства о древнем периоде русской истории — это позднейшие наслоения и искажения. Задача историографа — очистить Нестора от них. Только после этого можно будет приступить к научному повествованию о русской истории, которое охватит более чем семисотлетний период от Рюрика до последнего представителя начатой им династии. Здесь он собирался, наряду с источниками, использовать труды Татищева и Ломоносова. Далее Шлецер предполагал (об этом речь шла уже во втором разделе плана) создать целый ряд научно-популярных книг по истории, филологии, географии и статистике.
Казалось бы: ну, что можно иметь против этого? Неужели хоть кто-нибудь мало-мальски сведущий в исторической науке будет возражать и доказывать, что он не достоин профессорского звания? Однако ж именно некомпетентные в истории академики (Эпинус и др.) как раз и поддержали, причем самым решительным образом, кандидатуру Шлецера. А вот мнения историков разделились. Фишер высказался «за», но в характерно осторожных выражениях: «Если г. Шлецер то, что обещал, исправить может, то я не сомневаюсь, чтоб не был он достоин произведения в академические профессоры». Миллер, не ставя под сомнение «способности и прилежания» Шлецера, считал, что сделать его ординарным профессором можно, но при условии, что он согласится «всю свою жизнь препроводить в здешней службе». А поскольку это невозможно, ибо Шлецер собирался, уехав из России, публиковать русские материалы за границей (что было выгоднее), то его следует назначить «иностранным членом с пенсионом» и обязать при этом, чтобы он «ничего, что до России касается, в печать не издавал» без предварительного согласия Петербургской Академии наук. Наконец, самым резким и обидным для Шлецера вновь оказался ломоносовский отзыв. Ломоносов поставил под сомнение голоса, отданные за Шлецера академиками, во-первых, не имеющими отношения к истории, во-вторых, сплошь иностранцами, а свое собственное мнение о нем высказал очень даже недвусмысленно: «Свидетельства иностранных профессоров о знании г. Шлецера в российских древностях почитать должно недействительными, затем что они сами оных не знают. Что ж до меня надлежит, то оному Шлецеру много надобно учиться, пока может быть профессором российской истории». Второй свой отзыв, касающийся уже непосредственно Шлецерова плана работ, Ломоносов завершил такими вот словами (едва ли не издевательскими, с точки зрения Шлецера): «Впрочем, г. Шлецер может с пользою употреблять успехи свои в российском языке, не сомневаясь о награждении за его прилежание, ежели он, не столь много о себе думая, примет на себя труды по силе своей». Тут можно подумать, что Шлецеру вообще предлагалось оставить занятия историей в том объеме, в каком он наметил.
Ну, что ж, он еще покажет этому русскому химику «успехи свои в российском языке» и в «российской истории»! А пока Шлецер усердно, но торопливо снимает копии с русских исторических документов. И действительно: надо спешить, ибо еще неизвестно, сделают ли его ординарным профессором. Скоро ему придется покинуть Россию, и тогда — прощайте, русские архивы, прощай, слава первооткрывателя русской истории... Сейчас он всего лишь адъюнкт, и не имеет русского подданства, и потому лишен права работать в архивах. Но спасибо Тауберту: как истинный покровитель он не только открыл ему доступ к рукописям, но и снабдил его копиистом, — и все это в глубокой тайне. Уже скопированы древнейшие памятники русской письменности, документы XVII века, материалы начала XVIII века, которые были приготовлены для Вольтера, и многое другое. Но все-таки надо спешить.
А тут еще этот химик, этот ужасный человек, при одном имени которого все в Академии трясутся от страха... Мало того, что он поставил под сомнение исследовательские возможности его, Шлецера, да еще надменно советовал ему же, Шлецеру (прирожденному лингвисту), как следует выучиться русскому языку, теперь этот Ломоносов (конечно же, уязвленный Шлецеровым планом работ в своем авторском и национальном самолюбии) решил нанести ему удар, почти убийственный для всего его плана, а именно: закрыть ему доступ в архивы. Воистину варварский способ вести научный поединок — с обезоруженным противником.
Выбрав момент, когда президент был в отъезде, 2 июля 1764 года Ломоносов направил в Сенат представление следующего содержания: «Уведомился я, что находящийся здесь при переводах адъюнкт Шлецер с позволения статского советника Тауберта переписал многие исторические известия, еще не изданные в свет, находящиеся в библиотечных манускриптах, на что он и писчика нарочного содержит. А как известно, что оный Шлецер отъезжает за море и оные манускрипты, конечно, вывезет с собою для издания по своему произволению, известно ж, что и здесь издаваемые о России чрез иностранных известия не всегда без пороку и без ошибок... того ради сим всепокорнейше представляю, не соблаговолено ли будет принять в рассуждении сего предосторожности».
Скорее всего Ломоносов отнес это представление в Сенат самолично, так как уже на следующий день, 3 июля, в Академической канцелярии был получен сенатский указ, чтобы «у объявленного Шлецера, ежели по вышеписанному представлению исторические известия, не изданные в свет, найдутся, все отобрать немедленно». Кроме того, в Коллегию иностранных дел было направлено предписание не выпускать Шлецера за границу.
В этой более чем тревожной ситуации покровитель Шлецера Тауберт проявил чудеса изобретательности и оперативности. «3 июля 1764 года, рано утром, — вспоминал потом Шлецер, — едва я только встал, на нашем дворе остановилась гремящая карета. В мою комнату врывается Тауберт и тоном ошеломленного человека требует, чтобы я как можно скорее собрал все рукописи, которые получил от него... Всю эту груду бумаг лакей бросил в карету — и Тауберт уехал». Если учесть, что все происходило в субботу, то поведение Тауберта вряд ли можно назвать спешкой «ошеломленного человека» — это была именно оперативность человека делового (хотя и взволнованного), который вместо того, чтобы выполнить сенатский указ в субботу, употребил этот день на то, чтобы замести следы. Теперь у него со Шлецером в запасе было еще и воскресенье, чтобы уж совсем спрятать концы в воду. А уж в понедельник 5 июля можно было и доложить в Канцелярии об указе Сената, и составить соответствующее определение, и начать принимать меры по отношению к Шлецеру, которому, впрочем, теперь ничто не угрожало. Ему было предложено ответить на несколько вопросов. Они были такими легкими, вспоминал Шлецер, «как будто спрашивающий имел намерение доставить мне возможность торжествовать». 6 июля Шлецер направил в Канцелярию свои «торжествующие» ответы, из которых выходило, что он ни в чем не виноват и что обвинения, подобные предъявленным ему, оскорбляют его «горячее усердие к службе ее императорского величества».
Но Ломоносов и не подумал успокоиться. Новую атаку на Шлецера он обрушил в связи с его «Русской грамматикой». В своих мемуарах Шлецер вспоминал, что уже в первые месяцы по приезде в Петербург он часто вел разговоры с Таубертом о «Российской грамматике» Ломоносова, находя в ней «множество неестественных правил и бесполезных подробностей». В начале 1763 года Тауберт предложил Шлецеру самому написать грамматическое руководство по русскому языку. Тот согласился и управился за четыре месяца. В мае 1763 года был отпечатан первый лист, а в июле 1764 года — уже одиннадцать листов. Все это производилось втайне от Ломоносова. На роль автора нашли подставное лицо — иностранного корректора академической типографии И.-Ф. Гейльмана. Такая секретность объяснялась не только тем, что само имя Шлецера действовало на Ломоносова раздражающе, но еще и тем, что в «Русской грамматике» (хотя она и была полна примеров из ломоносовской «Российской грамматики») проводилась идея зависимости русского языка от немецкого, подтверждением чему должны были служить сразу ставшие знаменитыми этимологии Шлецера (например, слово «князь» происходит от немецкого Knecht, что может означать даже «холоп» и др.). И все-таки, несмотря на таинственность, которой было окружено печатание «Русской грамматики» Шлецера, Ломоносов в июле 1764 года дознался о ней и, прочитав, нашел в ней «множество несносных погрешностей» и «досадительные россиянам мнения». В результате печатание было приостановлено, а уже готовые листы были уничтожены (по свидетельству Шлецера, уцелело лишь шесть комплектов).