Оставшиеся в тени
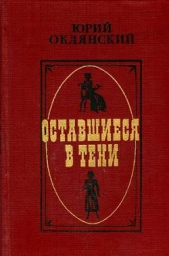
Оставшиеся в тени читать книгу онлайн
Книга Юрия Оклянского «Оставшиеся в тени» впервые объединяет под одной обложкой две биографические повести, получившие широкое признание читателей. Главных героинь «Шумного захолустья» и «Повести о маленьком солдате» роднят незаурядность натур и тот вклад, который они внесли в историю литературы и события эпохи. Частичная доработка произведений, осуществленная автором в настоящем издании, отобразила документальные материалы последних лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кроме того, Рюлике-Вайлер указывает другие личные и литературные причины, которые определили выбор Брехта:
«Теоретические позиции немецких писателей-эмигрантов — под руководством Георга Лукача — в существенных пунктах не отвечали его собственным. К тому же получалось так, что… Брехт (в СССР. — Ю. О.) был недостаточно известен. Луначарский, который мог бы ему помочь, давно умер, но и Третьякова и Бела Куна, которые прежде отстаивали его работы, больше не было в живых» [49].
Не устраивала Брехта и административная команда, которая со второй половины 30-х годов становилась стилем руководства художественной культурой, литературой и искусством. Брехт же, как он однажды выразился, «привык сам определять, сколько сахара класть в кофе».
Причин, как видим, много, самых разнообразных — личных, общественных, международных, политических, литературных. Не все они даже при обоюдном желании могли открыто обсуждаться Аплетиным и Брехтом в то время. И однако состоявшийся разговор был настолько откровенным и раскованным, насколько мог быть с человеком, которому симпатизировал Брехт.
Происходило это в скромном рабочем кабинете Аплетина на Кузнецком мосту, где располагалась тогда Иностранная комиссия.
Теперь уже неизвестно, кто начал разговор. У Аплетина был свой интерес к этой деликатной теме. Сверху с самого начала было рекомендовано: целиком положиться на желание писателя, ни на чем не настаивать. При общей сложной политической ситуации не брать на себя невыполнимых обязательств, выяснять намерения и планы. Друзья нужны СССР и в Америке [50].
— …Существующие особые отношения с Германией, будь я в Москве, сами понимаете, связали бы мне руки, — сказал Брехт. — О чем же я буду писать?
Он намекал на заключенный в августе 1939 года пакт о ненападении с Германией.
— Да… Но жизнь идет и по-разному поворачивается, — уклончиво заметил Аплетин.
— Вы — другое дело… — примирительно возразил Брехт. — У вас гибкая интеллектуальная политика. Ваш государственный корабль ищет проходов в минных полях мировой бойни… Семь футов вам под киль! А у нас, немцев, с Маляром особые счеты. У нас с ним может быть только война и никакого ненападения… Если я не буду писать против Гитлера, тогда мне просто не о чем писать. Я и моя семья умрем с голоду…
— Ничего, первое время прокормим, — улыбнулся Аплетин.
— Нет уж, — серьезно произнес Брехт. — В США подобралась хорошая компания изгнанников. Там почти все друзья и давние сотрудники… Фейхтвангер, Эйслер, братья Герцфельде, много других. Затеем коллективную работу в театре, на киностудиях…
Аплетин снял очки и стал их протирать.
— Ну что ж… Хотел еще раз дверь подергать, вдруг передумаете! А нет — так в добрый путь… Езжайте…
Брехт перехватил его выражение.
— Я был однажды в Штатах, в тридцать пятом году, — сказал он. — Ставил пьесу «Мать»… Газеты там лгут с той же легкостью, с какой кокетки назначают свидания. Если про меня будут писать, что я выступил с каким-нибудь заявлением против Советского Союза, не верьте, дорогой друг Аплетин. Все может быть, но этого никогда не будет!..
Этот разговор с Брехтом Аплетин потом не раз передавал сотрудникам Иностранной комиссии, особенно подчеркивая последние слова писателя: «…этого никогда не будет!»
Вспоминал он их и в смутные первые годы после войны. Вокруг Брехта возникало тогда много сенсаций и всяческих домыслов.
В ноябре 1947 года писатель с семьей прилетел из США и обосновался на жительство в Швейцарии… Почему? Он принял австрийское гражданство… Зачем?
Буржуазные газеты писали, что Брехт — перебежчик, что он уже объявил или вот-вот открыто объявит о своем разрыве с коммунизмом.
Но в ответ на такие сообщения Аплетин только отрицательно покачивал головой, а иногда говорил: «…этого никогда не будет!» У него не было информации, точных данных. Но он знал Брехта.
В 1948 году писатель поселился в демократическом Берлине. «У меня такие убеждения не потому, что я здесь, я здесь потому, что у меня такие убеждения», — писал он о ГДР.
До возвращения на родину Брехт располагал лишь отрывочными сведениями о литературной жизни в Москве. Но по разным признакам видел, как относилась к нему Иностранная комиссия Союза писателей, которую в его глазах многие годы как бы олицетворял М. Я. Аплетин. Все это, очевидно, и побудило Брехта в 1955 году в торжественную минуту публично назвать Аплетина своим «ментором», что по-немецки одинаково значит — наставник и воспитатель…
Впрочем, это случилось значительно позже. А тогда Брехт вышел из помещения в мягкий простор майского вечера, довольный состоявшимся разговором.
Идя по Кузнецкому мосту, он не знал еще, что надвигаются новые испытания…
Чкаловская, 53
…Этот дом стоит на горе, при крутом спуске к Яузе, как бы отсеченный от современной Москвы высокими коваными воротами и потом сбегающим по линии ворот до самой реки долгим забором, из старинных чугунных пик, которые окончательно утверждают независимость уединившегося внутри парка и строений барской усадьбы.
Сквозь чугунные просветы даже мгновенному взору из летящего мимо троллейбуса видна простершаяся по взгорью роща из дубов и лип, с посыпными прогулочными дорожками, врытыми в землю скамеечками и белокаменными беседками-ротондами… Да и сам двухэтажный желто-белый дом, с лепным бордюром из львиных морд по верху фасада и крупной цифрой «1814», выбитой на железных воротах, останавливает на себе даже рассеянный взгляд пассажира.
Островок старинной Москвы уцелел на отрезке Садового кольца, самой оживленной столичной магистрали, всего в двух троллейбусных остановках от Курского вокзала. Не мудрено, что, как и другие, я много раз проезжал или проходил мимо. И при взгляде на эти сбегающие по горе вековые деревья и загадочный особняк наверху в сознании, наверное, не однажды мелькал вопрос: «Что там?» Я помнил и забывал этот дом.
Он вдруг отчетливо представился мне в 1976 году в Берлине, когда я прочитал в архиве на телеграмме Брехта московский адрес: «Центральный институт туберкулеза, Чкалова, 53».
Лучше мы, что ли, видим издалека? Во всяком случае чувствуем острее, это верно. Не пришлось даже долго ворошить память. Если где и мог располагаться такой институт в этом районе Садового кольца, то, значит, вон где — в том самом доме!
И, вернувшись в Москву, полный, что называется, заочных сведений и картин, я вскоре направился туда. Смутное видение оказалось явью! Самое удивительное, что даже нумерация дома осталась прежней. За истекшие почти четыре десятилетия столько раз перевешивались повсюду номерные скворечники на зданиях — не говоря уже о военных и прочих убылях, сносились целые кварталы, переименовывались улицы, раздвигалось вширь само Садовое кольцо, а этот дом как был, так и остался: Чкалова, 53!
С понятным трепетом протиснулся я в раздвинутые створки чугунных ворот. Вошел во двор и осмотрелся.
Справа от меня было витое парадное крыльцо, с лежащими у перил и стерегущими вход медными фигурами львов и диковинных грифонов. Слева — несколько подсобных желто-белых зданий — раньше, видимо, домашняя церковь, людские, конюшни, переделанные для нынешнего пользования в корпуса. Впереди, у самых ног, с откоса простирался вид на тот самый парк и реку.
Странно, но в этот солнечный октябрьский полдень на дворе почему-то не было ни души, если не считать копошившегося в отдалении у санитарной машины шофера. На меня повеяло особенным умиротворяющим покоем. Войдя сквозь ворота, я словно бы шагнул в иной мир, в иной век.
Пропала современная Москва, и даже темная лента Яузы, видневшаяся сквозь вершины уже обнажившихся деревьев, тянулась сюда, кажется, прямо из додедовских времен. Вон, очевидно, пушкинский дуб! Огромный, в пять обхватов, рассохшуюся его толщину сдерживают железные обручи, ствол почернел и обуглился, может, от молнии, может, от возраста, и в его изжившихся выжженных недрах бог весть как пьют соки молодые ветви… Между грубой броней дубов и липами стайками мелькают не сразу приметные березки. Петляющие по склонам дорожки, с вросшими в землю скамеечками, латунные фигурки на постаментах, собратья крылечных грифонов, белокаменные беседки, разрушенный чайный домик… Вот здесь стоял, бродил и созерцал эти виды в мае 1941 года Брехт, а может быть, перед отъездом он сидел на одной из этих скамеечек даже вместе с Гретой… если, конечно, она к тому времени была в состоянии передвигаться… Вот до чего оторвался от реальности!


























