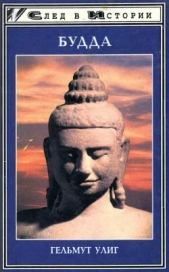Хайдеггер: германский мастер и его время

Хайдеггер: германский мастер и его время читать книгу онлайн
Книга Рюдигера Сафрански посвящена жизни и творчеству Мартина Хайдеггера (1889–1976), философа, оказавшего огромное влияние на развитие философии XX века; человека, после войны лишенного права преподавания и всеми оставленного; немца, пытавшегося определить судьбы западноевропейской метафизики и найти объяснение тому, что происходило на его глазах с Германией и миром.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Разговор все-таки состоялся, после того, как редакция «Шпигеля» согласилась принять условие Хайдеггера – не публиковать это интервью при его жизни. Состоялся 23 сентября 1966 года, в доме Хайдеггеров во Фрайбурге [463]. Помимо самого Хайдеггера, Аугштайна, редактора «Шпигеля» Георга Вольфа и одной дамы, фотографа Дигни Меллер-Маркович, на этой встрече присутствовал, в качестве безмолвного «секунданта» Хайдеггера, и Генрих Виганд Петцет. По свидетельству Петцета, Аугштайн незадолго до начала беседы признался ему, что испытывает «безумный страх» перед «прославленным мыслителем». После этого признания Петцет, поначалу опасавшийся, что Аугштайн будет вести себя как «пыточный палач», сразу же проникся к нему симпатией. Хайдеггер тоже волновался. Он ждал посетителей у двери своего кабинета. «Я немного испугался, – рассказывает Петцет, – когда взглянул на него и понял, в каком он напряжении… Жилы на его висках и на лбу набухли, глаза от волнения были слегка выпучены».
«Безумный страх» Аугштайна особенно заметен в начале беседы. К «болевым точкам» этот человек прикасается очень осторожно, с обходными маневрами и как бы кончиками пальцев: «Господин профессор Хайдеггер, мы систематически замечаем, что на Вашу философскую деятельность падает некоторая тень от определенных, не очень долго продолжавшихся обстоятельств Вашей жизни, которые так и остаются непроясненными, то ли из-за Вашей гордости, то ли потому, что Вы не считали целесообразным высказываться по этому поводу» [464]. Хайдеггер, соглашаясь на такую беседу, не мог не понимать, что она будет вращаться главным образом вокруг его национал-социалистского прошлого. Тем сильнее он был удивлен, когда Аугштайн как-то даже чересчур поспешно оставил эту тему, чтобы перейти к разработанной Хайдеггером интерпретации современной эпохи и в особенности к его философии техники. Аугштайн и Георг Вольф просили извинения всякий раз, когда, например, приводили цитаты из ректорской речи Хайдеггера или речи, произнесенной им на празднике памяти Шлагетера, а также когда напоминали о слухах, касавшихся участия Хайдеггера в сожжении книг или его поведения по отношению к Гуссерлю. Интервьюеры Хайдеггера так мягко определяли характер его ангажированности при национал-социализме, что он сам предложил более соответствующую действительности версию тогдашнего своего поведения. Согласно интерпретации Аугштайна и Вольфа, Хайдеггеру в его бытность ректором просто приходилось «многое… говорить ad usum Delphini». На это Хайдеггер возразил, «что оборот «ad usum Delphini» мало что объясняет. Тогда я верил, что в дискуссии с национал-социализмом мог бы открыться новый и единственно возможный путь к обновлению» [465]. Однако и хайдеггеровская версия тоже не до конца правдива. И вот почему: вовсе не в «дискуссии с национал-социализмом» искал он «путь к обновлению», а сама национал-социалистская революция, как он ее тогда понимал, представлялась ему обновлением. Не упомянул он в интервью и о том, что одно время видел в таком обновлении событие эпохального значения, метафизическую революцию, «полный переворот… немецкого бытия» – даже больше того, переворот бытия всего Запада. Он не сказал, что, помимо всего прочего, поддался опьянению властью; что, желая защищать чистоту революции, иногда занимался доносительством; что вступил в конфликт с вышестоящими национал-социалистскими инстанциями и с собственными коллегами – чем и объяснялась его неудача на посту ректора – именно потому, что хотел «двигать» революцию дальше. Вместо этого он пытался создать впечатление, будто его сотрудничество с национал-социалистами было чуть ли не формой сопротивления. Он подчеркивал, что до 1933 года занимал аполитичную позицию, а свое решение принять ректорство изображал как жертвенный акт, который он, Хайдеггер, совершил, чтобы не допустить худшего – захвата власти в университете функционерами из НСДАП. Короче говоря: Хайдеггер в этой беседе скрывал тот факт, что одно время был убежденным национал-социалистским революционером, и умалчивал о философских побуждениях, которые сделали его таковым.
Но если Хайдеггер и пытался представить свою роль в нацистский период более безобидной, чем она была на самом деле, он, по крайней мере, не разыгрывал из себя «застрельщика демократии», в отличие от многих других заметных фигур послевоенной Германии. Когда разговор перешел на ту проблему, что «техника все больше отрывает человека от земли и лишает его корней» (242), Хайдеггер напомнил, что национал-социализм поначалу собирался бороться с этой тенденцией, но затем сам превратился в ее главную движущую силу. Философ признался, что не способен судить, «как вообще и какая политическая система может соответствовать техническому веку»; а потом добавил: «Я не уверен, что такой системой является демократия» (241-242). Именно в этом месте беседы Хайдеггер и сказал: «Только Бог еще может нас спасти» (243). Под таким заголовком интервью было опубликовано в «Шпигеле» в 1976 году, после смерти Хайдеггера.
Эта беседа по замыслу должна была положить конец спорам об «ангажированности» Хайдеггера в период национал-социализма, на самом же деле после ее публикации такие споры вспыхнули с новой силой. Ведь Хайдеггер строил свою защиту по тем же линиям, что и подавляющее большинство тогдашних «скомпрометированных», по поводу которых Карл Шмитт в своем «Глоссарии» ядовито заметил: они сделали открытие, истолковав соучастие как одну из форм сопротивления. Однако то, что простительно обычным людям, Man, как-то не к лицу философу подлинности, который требовал от вот-бытия решимости, подразумевающей, среди прочего, и мужественную готовность принять на себя ответственность. Ответственность же простирается не только на сферу намерений человека, но и на его ненамеренные ошибки – на непредусмотренные последствия его действий. Но справедливо ли было требовать от Хайдеггера, чтобы он взял на себя часть ответственности за чудовищные преступления национал-социализма, в которых он в самом деле не участвовал – не участвовал даже в их идеологической подготовке? Ведь он никогда не был расистом…
О «хайдеггеровском молчании» было сказано много слов. Чего же от Хайдеггера ждали? Герберт Маркузе 28 августа 1947 года написал ему, что ждет «слова», которое «окончательно» освободило бы Хайдеггера от «идентификации» с национал-социализмом, стало бы «публичным признанием» его – Хайдеггера – «изменения и преображения». Хайдеггер ответил, что еще во времена национал-социализма публично (в своих лекциях) засвидетельствовал такое изменение, а в 1945 году демонстративное отречение от своих прежних убеждений было для него невозможно, поскольку он не хотел оказаться в дурном обществе тех «приверженцев нацизма», которые «самым омерзительным образом заявляли о своем переходе на другую мировоззренческую позицию», желая обелить себя и открыть для себя путь к послевоенной карьере. Требование общественности, чтобы он «дистанцировался» от убийства миллионов евреев, Хайдеггер по праву считал чудовищным. Ведь если бы он решился на такое, это означало бы молчаливое согласие с суждением тех, кто приписывал ему соучастие в геноциде. Чувство собственного достоинства не позволяло Хайдеггеру пойти на это незаслуженное унижение.
Но если Хайдеггер не желал оправдываться, то есть фактически признать себя потенциальным соучастником массовых убийств, это вовсе не значит, что он отвергал требование «осмыслить Освенцим». Каждый раз, когда Хайдеггер говорил об извращенности новоевропейской воли к власти, использующей и природу, и человека как простой материал для устроения мира, он имел в виду и Освенцим – независимо от того, произносилось ли это название вслух или нет. Для него, как и для Адорно, Освенцим был типичным преступлением современности.
Если мы поймем его критику современности как философствование об Освенциме, станет очевидно: проблема «хайдеггеровского молчания» заключается вовсе не в том, что он молчал об Освенциме. В философском плане он умалчивал о чем-то другом: о себе самом, о том, что философ вообще склонен поддаваться соблазну власти. И еще он не задавал себе – как это, к сожалению, слишком часто случалось в истории мышления – один очень важный вопрос: кто я, собственно, есмь, когда я мыслю? Мыслящий «владеет» своими мыслями, но иногда получается и наоборот: мысли овладевают им. «Кто» мышления меняется. Тот, кто мыслит о великом, легко может впасть в искушение и принять самого себя за великое событие; он хочет соответствовать бытию и тщательно следит за тем, каким предстает в контексте истории, – а не за тем, каким видится самому себе. Его собственная «непредрешенная» личность растворяется в мыслящей самости и в великой системе взаимосвязей, к которой эта самость принадлежит. Онтологическая дальнозоркость не позволяет ясно видеть онтически ближайшее. Потому-то и возникает дефицит знания самого себя: собственных (обусловленных конкретным временем) противоречий, отпечатков, накладываемых на твою личность биографическими случайностями, твоих идиосинкразии. Философ, который знаком со своим непредрешенным «я», менее склонен к тому, чтобы смешивать себя с героями своей мыслящей самости и позволять собственным мелким историям раствориться в большой Истории. Одним словом: знание самого себя лучше всего защищает от соблазняющей власти.