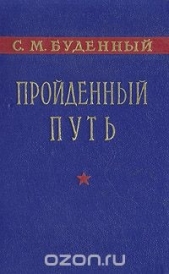Книга воспоминаний

Книга воспоминаний читать книгу онлайн
"Книга воспоминаний" известного русского востоковеда, ученого-историка, специалиста по шумерской, ассирийской и семитской культуре и языкам Игоря Михайловича Дьяконова вышла за четыре года до его смерти, последовавшей в 1999 году.
Книга написана, как можно судить из текста, в три приема. Незадолго до публикации (1995) автором дописана наиболее краткая – Последняя глава (ее объем всего 15 стр.), в которой приводится только беглый перечень послевоенных событий, – тогда как основные работы, собственно и сделавшие имя Дьяконова известным во всем мире, именно были осуществлены им в эти послевоенные десятилетия. Тут можно видеть определенный парадокс. Но можно и особый умысел автора. – Ведь эта его книга, в отличие от других, посвящена прежде всего ранним воспоминаниям, уходящему прошлому, которое и нуждается в воссоздании. Не заслуживает специального внимания в ней (или его достойно, но во вторую очередь) то, что и так уже получило какое-то отражение, например, в трудах ученого, в работах того научного сообщества, к которому Дьяконов безусловно принадлежит. На момент написания последней главы автор стоит на пороге восьмидесятилетия – эту главу он считает, по-видимому, наименее значимой в своей книге, – а сам принцип отбора фактов, тут обозначенный, как представляется, остается тем же:
“Эта глава написана через много лет после остальных и несколько иначе, чем они. Она содержит события моей жизни как ученого и члена русского общества; более личные моменты моей биографии – а среди них были и плачевные и радостные, сыгравшие большую роль в истории моей души, – почти все опущены, если они, кроме меня самого лично, касаются тех, кто еще был в живых, когда я писал эту последнюю главу”
Выражаем искреннюю благодарность за разрешение электронной публикаци — вдове И.М.Дьяконова Нине Яковлевне Дьяконовой и за помощь и консультации — Ольге Александровне Смирницкой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Большой любви среди египтологов к В.В.Струве не было, а М.Э.Матье и И.М.Лурье сыграли немалую роль в том, что Струве ушел из Эрмитажа, хоть тут были и другие причины. Я уже упоминал, что после его ухода заведующей отделением Египта стала не Н.Д.Флиттнер, как предполагалось, а поддержанная парторганизацией Милица Эдвиновна, к тому времени вступившая в партию, — под влиянием И.М.Лурье, как думал он сам, а скорее по подсказке собственного ума.
Ибо Милица была человеком незаурядного ума, воли и способностей. Даже Ю.Я.Перепелкин, скептически смотревший на научные возможности большинства своих коллег, признавал ее научные достижения. Она сумела написать и напечатать больше, чем кто-либо из её сверстников-египтологов (по искусству и религии Египта, по коптскому искусству; вместе с И.М.Лурье издала хрестоматию по египетской скорописи и начальный учебник египтологии). Если бы наши издания доходили бы до заграницы, то, несомненно, она была бы среди видных людей международного востоковедения.
Она была приятна в общении — не только по своему уму: разумно советовала. — но и по широкой образованности: хорошо знала поэзию, даже тихонько пела — «Александрийские песни» М.А.Кузмина, например.
Для того, кто ей нравился и представлялся достойным, она не жалела усилий, стараясь всячески помочь; но к тому, кого невзлюбит, была жестка и непреклонна (как к своей ученице Элле Фингарет, которая провинилась только легким отношением к любви — почему такой ригоризм вдруг? — может быть, не до конца сведенные счеты Милицы с матерью?). Жизнь не берегла Милицу от страданий и унижений, — можно понять, что она не считала нужным щадить других, когда не было у них особых заслуг.
Ко мне она относилась очень хорошо, внимательно следила за моей научной работой и спрашивала моего мнения о своей.
Внизу вместе с Милицей Эдвиновной в кабинете сидела хранительница коптских тканей, искусствовед Ксения Сергеевна Ляпунова. Какая она была — я не могу рассказать; кроме того, что она была крупная, со здоровым цветом лица, сероглазая, темноволосая — и очень тихая и молчаливая. Я лучше узнал ее как надежного, добросовестного, трудолюбивого товарища во время эвакуации Эрмитажа в 1941 г. За все довоенное время я помню только одну ее реплику: когда мы сверху зачем-то спустились к М.Э. и очень галдели вокруг ее стола, она обернулась на стуле и сказала вдруг:
— Можно я процитирую Гоголя?
— Можно, можно, Ксения Сергеевна.
— Пошли вон, дураки.
Это так не шло к ее старомодной вежливости и дворянской осанке, что мы вес засмеялись и ушли.
Наверху как бы «главным» был Исидор Михайлович Лурье. Он уже не носил кожанки и слишком коротких брюк, но пиджачный костюм сидел на нем как кожанка. Он был минчанином, сначала подпольщиком-партизаном, а потом учеником Н.М.Никольского (библеиста, давно осевшего в Минске, сына «старика» М.В.Никольского, профессора Духовной академии, издававшего шумерские хозяйственные документы коллекции Н.П.Лихачсва). Из Минска И.М. рано перебрался в Ленинград, где он учился египетскому то ли у Струве, который его не выносил, то ли у Милицы Эдвиновны. Исидор Михайлович был партийным ортодоксом, несгибаемым («я не согласен!»), и твердо верил в генеральную линию партии и в теорию феодализма на древнем Востоке, внушенную ему Н.М.Никольским. Египтолог он был средний, по образованию самоучка, но очень доброжелательный к людям, — к которым он, впрочем, не совсем относил тех, в ком видел идеологических и классовых врагов. Он тоже очень интересовался моей научной работой, а так как он был принципиальный спорщик, быстро замечавший слабые места собеседника, то говорить с ним и обсуждать свои работы было очень интересно. Он и свои работы охотно давал читать и обсуждать товарищам. Мне было, конечно, странно, что при всей его явной доброте, по всем спорным вопросам посерьезнее ему всегда хотелось писать письма в обком или, чего доброго, в ЦК — к 1938 г. различие между письмом в ЦК и письмом в НКВД становилось несколько теоретическим. Я как-то спросил его:
— Ведь если марксизм-ленинизм — это наука, то, как всякую науку, её должны развивать ученые, так как же? Он ответил:
— А ее и развивают.
— Где же?
— В ЦК нашей партии.
Он умер после речи Хрущева на XX съезде.
Борис Борисович Пиотровский по части науки держался в стороне от нас — история как таковая его не интересовала, ни соцэк, ни искусство, ни религия — он весь уже давно ушел в археологию, был учеником А.А.Миллера, основательно готовился к ведению раскопок в Армении (археолог он вообще был очень обстоятельный, серьезный и аккуратный). Незадолго до моего появления в Эрмитаже он совершил вместе со своими эрмитажными товарищами А.А.Аджя-ном и Л.Т.Гюзальяном большое разведывательное путешествие по Армении с целью полного учета возможных урартских городищ и выбора наиболее перспективного. И он не ошибся, выбрав Кармир-блур.
Бориса Борисовича в Эрмитаже тогда очень любили — был он человек компанейский, всегда готовый помочь в любом техническом деле: поднять, передвинуть, прибить, сделать рисунок для статьи.
Находился он уже не на первой стадии своего развития. Сначала он был мальчиком-египтологом при Наталии Давыдовне, потом — как пелось (до меня) в песне Сектора Востока:
Кто из всех нас моложе и выше,
Кто быстрей всех работы печет,
Кто по виду живет тише мыши,
А de facto не скучно живет?
Египтолог и ассириолог,
Начинающий он халдовед,
Замечательный яфетидолог –
Вот Б Б вам готовый портрет.
В песенке не сказано того, чем Б.Б. бесспорно был: замечательным археологом — пока не стал директором. Но и как у археолога у него все-таки был грешок — он всегда жаловался, что его обижают, и не терпел никого самостоятельного на своем раскопе. Как и М.Э., Б.Б. был сыном офицера. Во время войны он вступил в партию — по любви ли — не знаю.
Кончил он жизнь сейчас (1990 г.) академиком, директором Эрмитажа и Дома ученых, членом буквально десятков академических и других комитетов и зарубежных академий, единолично представлявшим всю эрмитажную науку в многосерийном телефильме.
Мы с ним были в хороших отношениях.
И, наконец, Михаил Абрамович Шер. Это был маленький быстрый очкарик, хранивший в своей лысеющей под слегка рыжеватыми кудрями голове необыкновенную ученость. Когда-то Б.А.Тураев написал магистерскую диссертацию о египетском боге Тоте. После этого каждому из учеников он старался дать тоже тему по какому-нибудь египетскому богу. Так, Франк-Камснецкий написал диссертацию о боге Амоне (по-немецки — и защитил ее в Германии, в Кенигсберге, что ныне Калининград). Шеру достался бог Сет. Надо сказать, что в ходе развития египетской религии Сет, брат и соперник Осириса, постепенно превращается в божество злого начала. Шер начал искать параллели в демонологии всего мира и, в особенности, христианской. Товарищи его шутили, что, встретив в романе XX в. персонаж, который восклицает: «Черт возьми!», Шер его выносит на отдельную карточку. Это, может быть, было преувеличением, но верно то, что Шер был не в состоянии ограничить свои поиски параллелей. После войны его картотека одно время побывала в нашем отделении, и я ее видел: это был огромный ящик, примерно 150x100 см, тесно набитый карточками нестандартного формата и самого странного, но всегда чертовского содержания: Шер был величайшим в мире специалистом по черту. Не знаю, владел ли он латынью, но, наверное, владел: патрологические сочинения, во всяком случае, им были изучены. А также православные славянские жития и хождения по святым местам: на свои гроши он собрал их целую библиотеку.
В то же время Шер был милый, приветливый и готовый всем помочь человек. Однажды он увидел недалеко от служебного выхода Эрмитажа пожилую машинистку, что-то делавшую в общем районе своего колена. Шер немедленно подбежал:
— Могу я чем-нибудь помочь?
— Да нет, у меня узел завязался на подвязке, не могу развязать.
— Разрешите, я перекушу?
Но при этих его умилительных качествах Шер был начисто лишен какой-либо сообразительности. Поначалу его посадили за составление инвентаря египетских амулетов. Такой инвентарь был уже когда-то издан В.С.Голенищевым, — но по-французски. Теперь его предстояло вписать по форме в инвентарную книгу, слегка сокращая голенищевский текст и переводя его на русский, — но, конечно, сверяя каждый раз инвентарную запись с подлинным предметом.