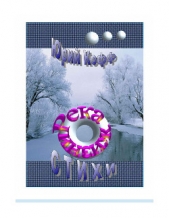Воспоминания

Воспоминания читать книгу онлайн
В этом уникальном издании собраны воспоминания Варлама Тихоновича Шаламова — поэта и прозаика, чье творчество стало откровением для нескольких поколений русских читателей. Детство, юность, участие в литературной жизни Москвы 20-х годов, арест, лагеря, возвращение. Кристальная честность и взыскательность к себе отличают автора этих воспоминаний. Значительная часть материала публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…В середине двадцатых годов выдвинулся молодой писатель Н. Г. Смирнов. Он выпустил увлекательную книгу, роман «Дневник шпиона». Знание дела, обнаруженное Смирновым, привело его неожиданно на Лубянку, где он в течение двух месяцев показывал — какими материалами он пользовался для своего «Дневника шпиона». Смирнов владел английским языком, достал несколько мемуарных книг английских (в том числе воспоминания Сиднея Рейли, известного в Москве по заговору Локкарта), читал английские газеты. Когда все разъяснилось, Смирнова освободили.
«Дневник шпиона» пользовался шумным успехом, но больших художественных достоинств не имел. Впрочем, Смирнов был безусловно талантливее писателя Николая Шпанова.
Поэт северянинского толка Лев Никулин выпустил толстую книжку «Адъютанты господа бога». Это был роман на ту же «модную» тему о «последних днях самодержавия». Я не остановил бы внимания на этой книжке, если бы не особые обстоятельства. Через много лет мне пришлось познакомиться с неким Осипенко — бывшим секретарем митрополита Питирима, покровителя Распутина. Петербургский митрополит Питирим и ввел Распутина в царское окружение. Молодой Осипенко играл там не последнюю роль, во всяком случае, видел очень много. На все мои просьбы хоть что-нибудь рассказать о Распутине Осипенко отвечал категорическим «нервным» отказом. В разговоре я случайно упомянул о книге Никулина.
— Вот с этой проклятой книги все и началось, — с чувством произнес Осипенко.
Выяснилось, что Осипенко самым хладнокровным образом работал в Ленинградской милиции делопроизводителем, твердо надеясь на «перемены». Так прошло несколько лет. Вышли «Адъютанты господа бога», где Осипенко был одним из главных героев. Его разоблачили, судили и сослали на пять лет. Это был самый первый случай активного вторжения писателя в жизнь, какой я наблюдал. Никулин и до сих пор не знает об этой истории. Он работал по архивам, по чужим воспоминаниям…
Горький двадцатых годов — это Горький Сорренто, ведущий большую переписку с советскими писателями и вообще с советскими людьми… Время от времени в газетах публиковались письма работниц и рабочих Горькому и ответы Горького на них, где он объяснял, почему он живет за границей: лечится, пишет…
Начинающие писатели паковали рукописи и посылали их в Сорренто Горькому. Горький все читал и на все отвечал самым сочувственным образом, только в случаях крайнего «графоманства» отвечая осудительно.
Его толкование таланта как труда, недостаточно четкое и неверное, родило множество претенциозных бездарностей. Бездарные люди ссылались на горьковский авторитет и заваливали редакции журналов рукописями и угрожающими оскорбительными письмами.
«Горький — отец самотека», — говорили в одной из редакций.
Мне кажется, что Горький действовал из самых лучших побуждений — желая разбудить «дремлющие силы», открыть дорогу всем, кто может писать.
Что касается таланта и труда, то мне больше нравится известная формула Шолом-Алейхема: талант — это такая штука, что если уж он есть, то есть, а если уж его нет — то нет. Суть дела, мне кажется, в том, что труд есть потребность таланта. Всякий талант — не только качество, а (и обязательно!) количество. Талант работает очень много.
Горькому очень верили. Его советы задержали на много лет развитие такого крупнейшего самобытного таланта, как Андрей Платонов. Платонов почти все написанное посылал Горькому. Горький отсоветовал ему печатать два романа, десятки рассказов…
Горький двадцатых годов — это автор книг «Детство», «Мои университеты», «В людях», романа «Дело Артамоновых», воспоминаний о Ленине, о Толстом. Все это издавалось, читалось, но никто не знал, вернется ли Горький в Советский Союз.
Оценка его творчества в целом была иной, чем в тридцатые годы, иной, чем сейчас.
Вацлав Боровский, крупный литературовед-марксист, в своих дореволюционных статьях о Горьком не считал его писателем рабочего класса (он считал его живописцем люмпен-пролетариата и купечества, в некоторой степени бытописателем интеллигенции, а «Мать» считал художественно слабым произведением).
С такими же примерно оценками выступал и Луначарский в первой половине двадцатых годов. Каясь в своих собственных «богостроительских» грехах, Луначарский не упускал возможности заметить, что в этих грехах повинен и Горький.
Зимой 1926–1927 года в Коммунистической аудитории университета при баснословном стечении народа — студенчества и пришедших «с улицы» — Воронский сражался с Авербахом. После доклада Авербаха, довольно мучительного (у него был какой-то дефект речи, хотя голос был звонкий, отличный), выступил Воронский.
Снял зимнее пальто, положил его на кафедру. Стал излагать свою позицию:
— Вы подумайте, что они пишут, эти молодые товарищи. — Читает: — «Пролетарская литература уже сейчас насчитывает многие имена — Гладкова, Березовского, Горького». Извините, извините. Горького вы сюда не причисляйте…
Горький приехал. Толпа у Белорусского вокзала. Плачущий высокий человек с черной шляпой в руках — вот все, что я видел тогда.
В лефовских кругах приезд Горького был встречен недовольным ворчаньем — как-никак «Письмо» (Маяковского) после приезда Горького перестало быть козырем.
Шкловский написал фельетон (напечатанный в «Новом Лефе»), где, признавая достоинства Горького как талантливого мемуариста — «Детство», «В людях», «Мои университеты», — видел в художественных произведениях многочисленные недостатки. Так, Шкловский, обвиняя Горького в бедности изобразительных средств, подсчитал, сколько раз на протяжении романа «Дело Артамоновых» Петр Артамонов берется за ухо.
В то время в «Известиях» подвалами печатались главы из нового романа Горького «Жизнь Клима Самгина». Шкловский писал: вот в газетах целую неделю из подвала в подвал ловят сома и никак поймать не могут. А за это время произошли важные события, жизнь идет, а в «Известиях» ловят сома из номера в номер.
Это было время сближения Шкловского с Третьяковым, апологетом «литературы факта».
Приезд Горького оживил литературную жизнь. Сам он поехал по Союзу знакомиться с новой жизнью.
Тогда все ждали прихода Пушкина. Считалось, что освобожденная духовная энергия народа немедленно родит Пушкина или Рафаэля. Сжигать Рафаэля и сбрасывать Пушкина с парохода современности в двадцатых годах уже не собирались, а жадно и всерьез ждали прихода гения, с надеждой вглядываясь в каждую новую фигуру на литературном горизонте. Пушкин не появлялся. Этому находили объяснения: дескать, «время трудновато для пера» и современные Пушкины работают в экономике, в политике, что Белинский нашего времени не писал бы критических статей о литературе, а подобно Воровскому был бы дипломатом.
Считалось, что Пушкин сидит еще на школьной скамье (осваивая Дальтон-план).
Но время шло, а Пушкина все не было.
Стали понимать, что у искусства особые законы, что вопрос о Пушкине вовсе не так прост. Стали понимать, что нравственный облик человека меняется крайне медленно, медленнее, чем климат земли. В этом обстоятельстве — главный ответ на вопрос, почему Шекспир до сих пор волнует людей. Время показало, что так называемая цивилизация — очень хрупкая штука, что человек в своем нравственном развитии вряд ли прогрессирует в наше время. Культ личности внес такое растление в души людей, породил такое количество подлецов, предателей и трусов, что говорить об улучшении человеческой породы — легкомысленно. А ведь улучшение человеческой породы — главная задача искусства, философии, политических учении.
Но в двадцатые годы на вопрос: где же Пушкин? — все отвечали: «Наш Пушкин — на школьной скамье!»