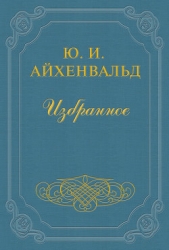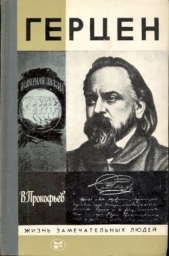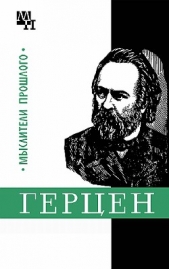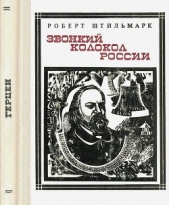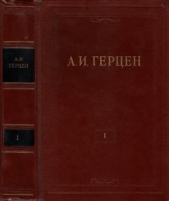Герцен
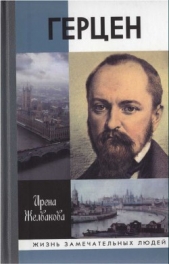
Герцен читать книгу онлайн
Автор жизнеописания Герцена — бессменный руководитель Дома-музея А. И. Герцена, историк, переводчик и литератор И. А. Желвакова — поставила перед собой непростую задачу — достоверно, интересно и объективно рассказать о Герцене. Ведь им самим создана блестящая автобиография — Былое и думы, а жизнь писателя и его литературное творчество давно стали предметом исследований в многочисленных книгах и научных трактатах.
И. А. Желвакова привлекла новые документы, изобразительные материалы, семейные реликвии, полученные ею в дар для музея от зарубежных потомков писателя; сопоставила концепции и факты, правдиво дополнив биографию Герцена, и непредвзято, без идеологического тумана, рассмотрела его жизнь и судьбу. В результате перед нами не персонаж из учебника, а живой, страстный и очень красивый человек феноменальных способностей, окруживший себя столь же одаренными, нестандартно мыслящими людьми. Через всю свою жизнь Герцен пронес идеал свободы личности, хотя видел, как мрак превращается в небесный свет и… наоборот.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Герцен еще надеялся, что с приездом в Женеву он «двинет общее и частное». Объединит семью. Но очень скоро дом опустел. Все разъехались. Кто куда: Натали с Лизой в Монтрё, Мальвида с Ольгой в свою любимую Италию. Герцен остался с Татой один.
Теперь их часто видели вместе, как степенно прогуливались они по берегу Женевского озера, о чем-то рассуждая. Вернувшись домой, Тата делала свои зарисовки, недорисуночки. Уроки видных мастеров, у которых она училась (кстати, в Брюсселе — у «первого художника» Луи Галле), и наставления отца (только в труде, кропотливой работе — залог «душевного здоровья») пошли ей на пользу.
Профессиональной художницы из нее, правда, не вышло. Так и осталась она дилетантом, «аматёром», как любил выражаться ее строгий воспитатель-отец, но успехи отмечались значительные.
В одной из комнат особняка замечаем на мольберте уже «начатый портрет Искандера». Изобразила Тата отца в серой блузе, белой рубашке, красным мазком жилета словно высветила темный фон, сделав профиль модели более выпуклым.
(Первый опыт работы маслом будет успешно повторен художницей через пару лет, когда писать Герцена будет знаменитый живописец Николай Ге, а Тата сделает новый, весьма профессиональный портрет отца. Но об этом несколько позже.)
Обширный дом в Буассьере вскоре показался таким неприютным и в общем-то даже не слишком удобным, что пришлось нанять новую квартиру на Quai du Mont Blanc. Огарев перебирался в Lancy, почти за город. Герцен, как всегда, устремился за Лизой, которую мать перевозила с места на место — Шильон, Монтрё, Веве…
Террор Тучковой переходил все возможные границы.
Герцен все еще надеялся любой ценой наладить отношения с ней, примерить ее со своими детьми. В 1866 году после очередного разрыва она продолжила свое ревнивое наступление: «Чего я хотела? Чтобы ты с нами был так же, как с ними — ты не мог или не хотел…»
Лиза росла в постоянных разговорах с матерью о смерти. «…Бедная, — писала Тучкова Герцену о дочери, — ее детство многого лишено, она растет как цветок на кладбище». «Смотрю на Лизу, и еще больнее становится — тяжело видеть ребенка, играющего на кладбище», — повторяла она в письме Огареву. — «У нее к тебе любовь и вера, которых нет ни к кому.<…> Это твой ребенок больше, чем наш…»
Герцен считал, что Тучкова не воспитывает дочь, а занимается «душевредительством» ребенка. Спасти Лизу во что бы то ни стало, «спасти Лизу — в ней сила огромная», всё подчинив ее воспитанию и образованию, — вот самое важное для Герцена и Огарева. Герцен словно предчувствовал, что дочь не вынесет той атмосферы «плача и отчаяния», в которую ее погрузила мать.
Семейная тайна становилась все более непереносимой пыткой. Страдали все: он — от невозможности (боязни, нежелания?) легализовать эти отношения. Она, страстно желавшая этого, — от его нерешительности.
Лиза между тем быстро развивалась и, вопреки всему, словно бы бессознательно, пропитывалась атмосферой, окружавшей Герцена и Огарева: приобщалась к великой истории, героям и лицам, ее представлявшим, воспитывалась на героических образцах. Она уже по-детски разбиралась в издательской деятельности, стремясь послать свою статейку в «Колокол». «Изумительный ребенок, — не уставал повторять Герцен. — Она несет на себе печать большого морального единства со мною».
Однако старания отца нивелировались пагубным влиянием матери. Характер Лизы полон сумасбродств и неожиданных фантазий. Она нервна, развязна, строптива. Вечная тревога за дочь и боязнь ее потерять делают жизнь последних его лет просто невыносимой.
Ухудшалось на глазах здоровье Огарева. Приступы эпилепсии следовали один за другим, и это особенно огорчало и беспокоило Герцена.
С тех пор как в 1859 году Огарев сошелся с Мери Сетерленд, много воды утекло. Ей было тогда 27, ему — около 46. Первые пять лет, до конца 1864-го, когда Герцен еще не перебрался из Англии на континент, Огарев жил в доме друга, часто навещая свою подругу. Их совместная с Мери жизнь началась только в Женеве.
У читателя, не посвященного в эту исключительную историю любовных взаимоотношений, таких непохожих, несравнимых людей, столь разного интеллектуального и социального уровня, может создаться превратное впечатление: барин, поэт, интеллектуал и… «кабацкая женщина» (как осмелилась ее назвать Тучкова), если бы не сохранившаяся между ними переписка — редкое свидетельство этого невероятного человеческого союза. Сложилась настоящая семья, где с пятилетнего возраста Генри, неизвестно от кого прижитого сына Мери, Огарев — его друг, воспитатель и отец.
Истинное, странное чувство, в которое он вложил всю свою душу, вызывает у него время от времени то опасение, то тревогу: а вдруг люди испортят всё, посмеются над ними, представят их отношения в виде шутки. Он страдает, а потом вдруг счастье переполняет его, и тогда приходит спокойное сознание, что Мери «прилепилась» к нему всем сердцем: «Жизнь должна быть проникнута человеческим чувством, иначе она пуста и холодно скучна».
В своих принципах гуманизма и свободы личности Огарев непоколебим, даже перед лицом друга. Его нравственные принципы неизменны. Без малейших сомнений «исправляет чужие грехи».
У Александра Александровича появляется первенец — его незаконнорожденный сын от связи с англичанкой Шарлоттой Гётсон (родившийся еще до женитьбы Саши на красавице-итальянке Терезине Феличе), тоже Александр, по прозвищу Тутс, Сандрино или Александр III. Решается вопрос, с кем будет жить мальчик. Герцен, как всегда, помогает деньгами, Тучкова как воспитатель — исключается, и Огарев берет его под свое покровительство. Тутс входит в новую семью Николая Платоновича, где воспитывается уже нелегкий подросток Генри [172].
На темном фоне частной повседневности — в «общей» жизни Герцена тоже множество утрат.
Девятнадцатого января 1865 года, едва достигнув пятидесяти шести лет, скончался Прудон. «Смерть продолжает косить… <…> все сталкивается, возникает очередь… кто следующий… Я же, вместо того, чтобы умереть, лысею так сильно — что скоро нигде не смогу показаться без шляпы», — с горестной самоиронией пишет Герцен Мальвиде Мейзенбуг. В «Колоколе» помещен некролог, где он называет «мощного борца» неоконченной борьбы своим учителем. Понятно, совместная деятельность прожита не без потерь и несогласий. С некоторыми позициями и взглядами выдающегося мыслителя Герцен, как известно, расходился.
После трехлетнего заключения в казематах ушел из жизни старший Серно-Соловьевич, Николай. Умер в Иркутске 5 марта 1866 года.
«Это был один из лучших, весенних провозвестников нового времени в России…», «…благороднейший, чистейший, честнейший Серно-Соловьевич — и его убили…» — помянет Герцен последнего «маркиза Позу».
Работа в типографии налаживалась. Известно: во всех самых трагических поворотах его судьбы работа и только работа держала Герцена на плаву.
Он спешил. Публикациям в женевском «Колоколе» не должно быть задержки.
Первая статья, законченная в Буассьере, «Письмо к Александру 11», имела повод — смерть наследника. Написана страстно. И встречена «молодой эмиграцией» не менее страстно, в штыки, как новая апелляция к высшей власти, как возбуждение «в большом числе читателей новой веры в царскую реформу».
У Герцена — сверхзадача (пусть несколько иллюзорная): в тягостную для императора минуту заставить его подумать «о пройденном» — о том, где он и куда идет. Ведь на «лавировании между казенным прогрессом и полицейской реакцией» далеко не уедешь. А потому необходимо сойти с того «страшного пути», на который царь встал с половины 1862 года, и возвратиться на прежнюю дорогу реформ во имя «великого земского дела».
Герцен по-прежнему уверен, что это письмо, как и первое, вызвавшее у него «невольный крик радости» при начале освобождения, не пройдет даром и Александр очнется от испуга «какого-то горящего рынка» или нескольких летучих листков.
«Сошествие с пьедестала», шаткость императора в оценке событий 1862–1863 годов Герцен готов привычно объяснить дурным его окружением, «опорой на тайную полицию и явно подкупленную журналистику». Но цель у него одна — доказать, что на дворе новая эпоха и возвращение к николаевскому самовластию преступно.