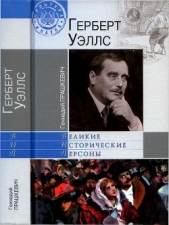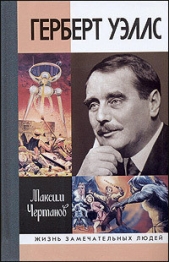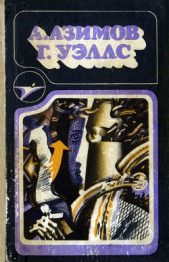Опыт автобиографии

Опыт автобиографии читать книгу онлайн
Приступая к написанию воспоминаний, автор и не подозревал, какое место в его творчестве они займут. Поначалу мемуары составили два тома. Со временем к ним добавился еще один, «Влюбленный Уэллс», — об отношениях с женщинами. В результате «Опыт» оказался одной из самых читаемых книг Уэллса, соперничая в популярности с его лучшими фантастическими романами.
В книге содержатся размышления не только над вопросами литературы. Маститый писатель предстает перед нами как социолог, философ, биолог, историк, но главное — как великая личность, великая даже в своих слабостях и недостатках. Горечь некоторых воспоминаний не «вытравляет» их мудрости и человечности.
«Опыт автобиографии» — один из важнейших литературных документов XX века.
На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Впервые это случилось, когда я взбунтовался против мануфактурной лавки и бежал в мечту о счастливом, нищем учительстве и ученичестве. Конечно, в меньшей степени и с меньшими неудобствами такое настроение возвращалось, но не проявилось в полной силе до моего развода. Тогда оно, как я теперь понимаю, стало мечтой о веселом, дерзком сочинительстве. Скрывалось под этим и то, что работа у Бриггса мне наскучила. Я не просто сменил одну жену на другую, я сменил самый образ жизни, прорвавшись к работе нового склада.
Все признаки того же самого желания бежать я снова замечаю в году 1909-м, хотя полного, глубокого разрыва с устоявшейся жизнью не произошло. Однако в «Новом Макиавелли» я, безусловно, в очередной раз высвободил энергию побега, если не в реальности, то в воображении. Сейчас (да, как ни странно, только сейчас) я понимаю, что мысль уехать куда-нибудь — скажем, в Италию, подальше от фабианских споров, утомительной и маловразумительной политики, литературной рутины — захватила целиком мое подлинное «я», а в истории Ремингтона, Маргарет и Изабеллы я просто инсценировал это желание. Ремингтон заместил меня самого, ослабил мое напряжение. Он вырвался из моего мира вместо меня — и в величавом спокойствии делился отвлеченными политическими соображениями à la Макиавелли, как о том мечтал я сам.
Мы переехали из Сандгейта в Лондон (1909 г.), потом из Лондона в Истон-Глиб (1912 г.), и там я снова угомонился. Обо всем этом вполне достаточно сказано в «Книге Кэтрин Уэллс». Глобальные вопросы войны и мира не выходили у меня из головы несколько лет. В 1924 году меня снова посетило то же настроение, настолько явное, что сейчас я удивляюсь, почему не сразу его опознал. На сей раз я не поехал писать в Италию в образе нового Макиавелли, я отправился на юг Франции. Разница небольшая. Я частично воплощал фантазию двенадцатилетней давности, с попустительства и при содействии жены, которая почувствовала, что мне очень тяжело, и поняла, что со мной происходит. Во Францию я устремился не сразу. Сначала я полетел на Ассамблею Лиги Наций, чтобы отправиться оттуда в кругосветное путешествие. Там, в Женеве, я изменил планы и повернул на юг, к Грасу. Я обнаружил, что могу, почти как Ремингтон, уйти от всех дел, по крайней мере на несколько месяцев, укрыться среди холмов, забыть о насущных заботах Англии, просеять все свои соображения и намерения, а потом — писать.
Началась двойная жизнь. Основное течение моей видимой, официальной жизни все так же проходило через дом в Эссексе — там разбирали мою корреспонденцию, вели мои дела, а на маленькой ферме (mas) под названием Лу-Бастидон, неподалеку от Граса, я, не хуже пророка Осии, изображал Уильяма Клиссольда, удалившегося на покой промышленника, заставляя его рассмотреть и обдумать мир. Три зимы с небольшими перерывами жил я в этом прекрасном солнечном уголке, очень просто и бесхитростно — сидел на солнышке, гулял среди цветущих олив, ходил и дальше, к холмам, и почти совсем не видел светской жизни, которая протекала так близко от меня, на Ривьере. Все это время я думал и писал о Новой республике, о том, как же действительно ее создать.
Жаль, что эти сезонные затворничества продолжались недолго. Неприметные сложности и затруднения — тоска по ванной, по электричеству и, может быть, по небольшому автомобилю — измучили меня. Попытался я возвести Лу-Бастидон на более прочном основании — и что же? Попал в западню. Я начал заигрывать со строительством и садоводством. Развлечение это наглядно, оно немедленно удовлетворяет творческий импульс и очень легко может отвлечь от действительности. К строительству и к садоводству можно пристраститься, как к алкоголю, отвлекая свой ум от всего мира и от собственных притязаний; Ривьера усыпана виллами, свидетельствующими о том, как обычен такой порыв. Я приобрел участок земли с прелестным утесом, виноградом, жасмином и бегущей неподалеку речушкой, построил дом, который назвал Лу-Пиду. После этого опрометчивого шага тяготы хозяйства и хлопоты автомобилевождения, а также садоводческие заботы стали затягивать меня. Ривьера, пронюхав обо мне, протянула к моему убежищу свои щупальца. Лу-Пиду был любительским, милым строением со своей особой прелестью, но настойчиво стремился разрастаться и усложняться. Он все меньше походил на убежище и все больше превращался в западню. Заботы и нужды множились, рвение и силы угасали, я проводил там все меньше времени, и, соответственно, становилось все меньше прекрасных, солнечных часов, отведенных размышлениям. Наконец, в мае 1933 года, настал день, когда я понял, что работать там толком не могу.
Как раз в начале 1933 года написал я вступительную часть автобиографии и настроение той поры передал вполне.
В конце концов я бросил Лу-Пиду, как змея сбрасывает кожу. Для этого требовалось усилие, но тяга к освобождению снова взяла верх. Я решил, что продам его или, если нужно, подарю. Совершив последнюю прогулку по оливковой роще на холме, я попрощался с апельсиновыми деревьями, которые сулили так много, с кустами роз, благословил ивы и ирисы, которые посадил по берегу, побыл на террасе бок о бок с серьезным черным котом, к которому очень привязался, и в последний раз спустился по знакомой дороге на станцию, в Канны.
Возвращаясь в Лондон, я угодил сначала на неистовый, но небезынтересный Международный конгресс ПЕН-клубов в Рагузе, на котором был председателем, а затем заглянул в совершенно новую для меня Австрию, которая поразила меня зеленой свежестью раннего лета. Теперь моя лондонская квартира — мой единственный дом. Два мальчика, о которых говорится в конце восьмой главы, сегодня уже сами отцы семейств, и у них свои дома, сыновья и дочери, а Истон-Глиб, описанный в «Книге Кэтрин Уэллс», я продал после ее смерти в 1927 году. Для меня он слишком велик и слишком пуст. Теперь я просмотрел всю свою семейную жизнь от начала и до конца. Этот этап завершен. Квартира над грохочущими Бейкер-стрит и Мэрилебон-роуд подходит для работы ничуть не меньше, чем любое другое место; ее легко содержать; я могу уехать, когда захочу, куда захочу и на сколько захочу; Лондон, несмотря на весь мой неистовый радикализм, очень мил и дружелюбен ко мне. Хотя у меня нет собственного сада, Риджент-парк у самых моих дверей и с каждым годом все прекраснее; нет садов, подобных Кью-Гарденс, и нет в мире людей, более приятных, чем лондонские жители.
«Мир Уильяма Клиссольда», над которым я работал в Лу-Бастидоне, хаотичен, хотя на самом деле я отвлекаюсь меньше, чем кажется. Суть, до которой я добрался только в книге пятой (первые четыре книги написаны в основном, чтобы привести в мир братьев Клиссольд), суть эта в том, что можно объединить творческие силы, рассеянные по миру, чтобы они, плодотворно сотрудничая, составили что-то вроде «легального заговора». Я представляю себя на месте мудрого промышленника, наделенного научным складом ума, и вот как он это видит:
«Бессмысленно думать о созидательной революции, если только в ее руках не будет определенной власти, и очевидно, что созидательная власть принадлежит в мировом масштабе, с одной стороны, современной промышленности, связанной с наукой, а с другой стороны — финансистам. Люди, осуществляющие руководство в этих областях, могут конструктивно изменять условия жизни в пределах своих полномочий. Никто другой не может осуществить такие перемены.
Вся остальная власть в нашем мире — либо долевая, либо ограниченная; либо откровенно обструкционистская, либо откровенно деструктивная. Власть признанного и пассивного права собственности, например, — всего лишь власть удерживать цены. Власть толпы — в забастовках, она воплощается в разрушении машин, в ненависти к специалистам… Только при помощи сознательного, легального и всемирного сотрудничества людей науки, знакомых с промышленностью, людей, способных контролировать основные артерии, по которым поступают кредиты, людей, способных контролировать газеты и политиков, — запущенную ими почти бессознательно колоссальную систему преобразований можно привести хоть к какому-то обнадеживающему порядку развития.
Такие люди, хотят они того или нет, и есть настоящие революционеры. Я считаю, что мы, промышленники и финансисты, становимся все образованнее, расширяем свой кругозор, по мере того как предприятия наши растут и переплетаются друг с другом. Если мы сумеем привить современному бизнесу достаточную ответственность, критическое взаимодействие и взаимодействующую критику, свойственные среде ученых и вообще компетентных людей, мы сможем отладить всемирную систему валютной и экономической деятельности, тогда как политики, дипломаты и военные никак не могут расстаться со своей исконной привычкой к фиглярству, чтобы понять бизнесменов и финансистов… В денежном и экономическом отношениях нам вполне по силам построить мировую республику средь бела дня, прямо под носом у тех, кто представляет старую систему. Я все больше убежден, что понять нас — значит быть с нами; мы нисколько не растеряем преимуществ своего положения и не подвергнемся риску проиграть, если будем совершенно открыто говорить о наших проектах и методах и просто воплощать их в жизнь.
Именно это я и понимаю под „легальным заговором“… Многие явления, которые сегодня представляются нам безнадежно антагонистическими, — например, коммунизм и мировые финансы, — в ближайшую половину столетия могут развиться настолько, чтобы двигаться вперед бок о бок, параллельными путями. В настоящее время крупные компании, занимающиеся сбытом, резко противостоят кооперативным потребительским ассоциациям; однако одна или две такие крупные компании уже заключили важные договоры с этими массовыми экономическими организациями, представляющими общественность. Обе стороны основываются сейчас на очень грубых представлениях об общественной психологии и общественной справедливости. Обе склоняются к интернационализации под давлением одних и тех же существенных причин.
Я не вижу повода сомневаться в том, что улучшатся личные качества и укрепится солидарность людей, которые в следующем столетии будут стоять у руля большого бизнеса. Они обретут бóльшую широту и ясность кругозора, более глубокие моральные устои. Быть может, в силу своего характера, желаемому я придаю черты действительного. Но мне кажется нелепым предполагать, что те люди, которые сегодня так крепко держат банковские рычаги, — люди ограниченные, заурядные, беспечные или склонные к начетничеству, — являют собой окончательный и неизменный тип банкира. Столь же неразумным кажется мне предположение, что такие полуобразованные, опытные дельцы, как мы с Диконом, а также наши партнеры и современники — нечто большее, чем паллиатив промышленного лидера, и что не появится кто-нибудь получше. В конце концов, Дикон и я — в лучшем случае ранние образцы, модели 1865 и 1867 годов…»