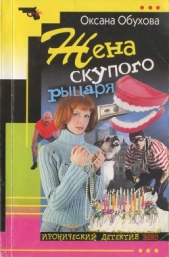За полвека. Воспоминания

За полвека. Воспоминания читать книгу онлайн
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), создатель русского слова `интеллигент`, автор популярнейших романов: `Дельцы`, `Китай-город`, `Василий Теркин` и многих других, был `европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня... требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки... русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На рождество я купил ей книжку популярной химии — в память моего когда-то увлечения этой наукой, и попросил Н.А.Огареву, как это делали нам, детям, положить ей книжку под подушку. И это было всего за несколько дней до болезни А.И.
В это время Париж сильно волновался. История дуэли Пьера Бонапарта с Виктором Нуаром чуть не кончилась бунтом. Дело доходило до грандиозных уличных манифестаций и вмешательства войск, Герцен ходил всюду и очень волновался. Его удивляло то, что наш общий с ним приятель Г.Н.Вырубов как правоверный позитивист, признающий как догмат, что эра революции уже не должна возвращаться, очень равнодушно относился к этим волнениям.
— Помилуйте! — говорил мне Герцен своим горячим, проникновенным тоном, — это не молодой человек, а мудрорыбица какая-то!
Это прозвище было так удачно придумано, что мы потом не иначе звали нашего позитивного философа, по крайней мере за глаза, как «мудрорыбица».
Не только днем Герцен выходил во всякую погоду, До и вечером — интересовался разными «conferences» на политические темы. И на одной из них тогдашнего молодого радикального публициста Вермореля в известной тогда Salle des capucines он и простудился. Первые два дня никто еще не видел ничего опасного в этой простуде, и среда прошла без участия хозяина, но без всякой особой тревоги. Его стал лечить все тот же Шарко. И на третий же день определилось воспаление легкого, которое от диабета вызвало нарыв.
Я ходил каждый день узнавать о его здоровье в дообеденные часы. Сначала ко мне выходила Огарева, а потом стала высылать Лизу. Она мне, почти возмущенная, говорит:
— Шарко поставил А.И. банки! Что это такое! Разве можно лечить потерей крови!
И в эти тяжкие дни Огарева не раз сказала мне про Тургенева то, что я уже приводил в печати, как она просила его остаться хоть еще сутки, чтобы выждать кризис, но он заторопился в Баден, а между тем ездил на казнь Тропмана. Это и меня очень покоробило, и я не счел нужным умолчать об этом, что, может быть, мне и пеняли. Но я до сих пор помню слова подруги Герцена:
— Тургенев, — сказала она ему, — вы мне всегда говорили, что после Белинского Герцена вы больше всех когда-то любили. Если он умрет, вам будет жутко, что вы не хотели подождать всего одну ночь!
Но он не захотел. Должно быть, его вызывала в Баден ее повелительность.
Больного я не видел. К нему уже не пускали. Он часто лишался сознания, но и в день смерти, приходя в себя, все спрашивал: есть ли депеша «от Коли», то есть от Н.П.Огарева. Эта дружба все пережила и умерла только с его последним вздохом.
Позднее, уже в России, я взял этот мотив для рассказа «Последняя депеша». Такой дружбы не знали писатели моего поколения.
Когда я утром пришел в Pavilion de Rohan, то в зале, у камина, стояли Вырубов и сын Герцена, только что приехавший из Флоренции.
Еще за два дня Вырубов, когда я был у него, говорил тоном заправского врача:
— Он не встанет! Образовался нарыв. Смерть неизбежна!
Похороны Герцена я описывал в печати. Они довольно. еще свежи в моей памяти, хотя с тех пор прошло уже целых сорок лет!
Довольно ясное зимнее утро, без снега. Группа парижских рабочих и демократов, несколько молодых русских и петербургский отставной крупный чиновник, который в передней все перебегал от одной кучки к другой и спрашивал:
— А разве духовенства не будет? Разве отпевания не будет?
Я не заметил ни одной известности политического или литературного мира. Конечно, были газетные репортеры, и на другой день в нескольких оппозиционных газетах появились сочувственные некрологи, но проводы А.И. не имели и одной сотой торжественности и почета, с которыми парижская интеллигенция проводила тело Тургенева тринадцать лет спустя.
Речей у могилы решено было не произносить, но Г.Н.Вырубов, распоряжавшийся похоронами, нашел все-таки нужным сказать короткое слово, которое появилось потом в печати.
Мы с Рагозиным и еще с кем-то из русских шли пешком от кладбища Pere Lachaisemm по большим бульварам, и мне тогда сделалось еще грустнее, чем было на кладбище в небольшой толпе, скучившейся около могилы. Для Парижа смерть нашего Герцена была простым «incident», но мы действительно осиротели.
И для меня лично Париж как-то потускнел. Приманки зимнего сезона перестали занимать. Потянуло вон. Для газетного сотрудника было все-таки немало интересного и в Палате с такой новой силой, как Гамбетта, и в журнализме с «Фонарем»
Рошфора, и в общем подъеме, направленном против бонапартизма, который искал популярности и шел на разные либеральные уступки.
И в театрах шли новинки, и оперетка еще не выдохлась. В Сорбонне и College de France читали те же профессора. Но я не выжил всего сезона и собрался опять в Вену. Не могу теперь с точностью определить — какой главный мотив вызвал этот ранний отъезд; но смерть Герцена дала толчок более грустному настроению. И парижская зима меня физически утомила, я не выходил из простуд, мне надоело шлепать по жидкой грязи или сидеть с лихорадочной температурой в тесной комнате с каминишкой, который, как всегда в дешевых отелях, беспрестанно дымил.
И потребность что-нибудь задумать более крупное по беллетристике входила в эти мотивы, а парижская суета не позволяла сосредоточиться. Были на очереди и несколько этюдов, которые я мог диктовать моему секретарю. Я мог его взять с собою в Вену, откуда он все мечтал перебраться в Прагу и там к чему-нибудь пристроиться у «братьев славян».
Жаль было… мою милую ученицу и приятельницу Лизу. Я ее просил писать мне из Парижа по-русски, что было бы ей полезно для ее орфографии. И в первом же ее письмеце на русском языке стояли такие строки: «Пет Мич» (то есть Петр Дмитриевич). Я ее (то есть все) больше и больше рисую, а у нас здесь будет скоро revolution». Она осталась верна себе по части политики, хотя немножко рано предсказала переворот 4 сентября.
Меня тогдашние парижские волнения не настолько захватывали, чтобы я для них только остался там на неопределенное время. Писатель пересиливал корреспондента, и я находил, что Париж дал мне самое ценное и характерное почти за целых четыре года, с октября 1865 года и по январь 1870, с перерывом в полгода, проведенных в Москве.
В Вене на первых порах мне опять жилось привольно, с большими зимними удобствами, не было надобности так сновать по городу, выбрал я себе тихий квартал в одном из форштадтов, с русскими молодыми людьми из медиков и натуралистов, в том числе с тем зоологом У., с которым познакомился в Цюрихе за полгода перед тем.
Припоминаю один инцидент, который впоследствии был связующим звеном с моим изучением нашего раскола старообрядчества. На вечернем журфиксе у священника Раевского я познакомился с одним русским химиком. Мы разговорились, и он мне как «бытописателю» рассказал про курьезных соседей своих по отелю — депутатов старообрядцев из Белой Криницы, живущих в Вене по делу об освобождении их от воинской повинности.
— Для вас будет занимательно потолковать с ними.
Мы с ним условились, когда мне зайти в его отель. Он их предупредит, а я их найду в столовой гостиницы.
Старообрядцы явились, один — старец в монашеском клобуке и в лисьей шубе, другой — плотный бородатый брюнет в поддевке. Старец был знаменитый Алимпий Милорадов, тот, что отыскал для Белой Криницы упраздненного греческого митрополита.
Они мне рассказали, что ждут здесь рассмотрения их «промемории» в Палате, что Бейст (первый министр) их обнадеживает, но они ему мало верят. От повинности они желают совсем освободиться, не только не попадать в солдаты, но даже и в военные санитары. Им хотелось, чтобы я просмотрел их «промеморию». По-немецки они, ни тот, ни другой, не знали, а составлял им местный венгерский чиновник — «становой», как они его по-своему называли.
Меня они в первый раз не застали. Горничная доложила мне, что были какие-то «жиды»
— «juden» и оставили какой-то пакет. Это и была их «промемория».