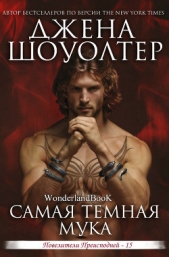Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820
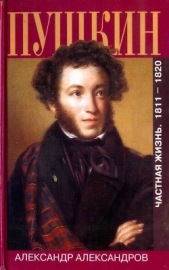
Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820 читать книгу онлайн
В этой книге все, поэзия в том числе, рассматривается через призму частной жизни Пушкина и всей нашей истории; при этом автор отвергает заскорузлые схемы официального пушкиноведения и в то же время максимально придерживается исторических реалий. Касаться только духовных проблем бытия — всегда было в традициях русской литературы, а плоть, такая же первичная составляющая человеческой природы, только подразумевалась.
В этой книге очень много плотского — никогда прежде не был столь подробно описан сильнейший эротизм Пушкина, мощнейший двигатель его поэтического дарования. У частной жизни свой язык, своя лексика (ее обычно считают нецензурной); автор не побоялся ввести ее в литературное повествование.
А. Л. Александров — известный сценарист, театральный драматург и кинорежиссер. За фильм «Сто дней после детства» он удостоен Государственной премии СССР.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Судьба ее была странна и вместе с тем довольно обыкновенна, достаточно вспомнить актрису Парашу Жемчугову, крепостную, любовницу, а потом и жену графа Шереметева.
Начиналось все так. Некий поручик Жданов, учитель кадетского корпуса, обрюхатил свою крепостную девушку Дарью и выдал ее замуж за своего же мужика Семена. От так называемого отца родившаяся девочка и получила фамилию Семенова, а назвали ее Екатериною. Училась она в училище под руководством знаменитого актера Дмитревского. Впоследствии роли с ней разучивал Шаховской, а потом Гнедич, с их голоса она и пела, то есть мелодекламировала, и, надо сказать, неплохо, голос у нее был чистый, звучный, приятный. Успех же у публики был колоссальный. Пушкин, едва увидев ее, сразу решил, что она лучше бездушной мадемуазель Жорж, хотя саму Жорж никогда не видел и не слышал. Но это для него не имело никакого значения, если он был чем-нибудь увлечен. Он уже даже начал писать статейку «Заметки о русском театре», где пел дифирамбы Семеновой, рассчитывая через Гнедича, боготворившего актрису, «Заметки» напечатать и выступить на поприще критика.
Особы высшего общества, разубранные и разукрашенные, как всегда равнодушные ко всему, кроме как к себе подобным, стали потихоньку располагаться в ложах бельэтажа и в первых рядах кресел.
Пушкин прискакал опять в партер к Пущину.
— Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них не найдешь ты сочувствия, — печально сказал ему Пущин.
— А я будто не знаю. А меня сейчас Гнедич с самим Катениным познакомил, — захохотал Пушкин, затеребил его, защекотал под мышками, обнял и тут же снова хотел убежать плясать перед первыми рядами, но взгляд его упал в одну из лож, где он увидел необыкновенную красавицу, окруженную толпой склонявшихся к ней мужчин.
— Кто это? — чуть ли не взвизгнул он.
— Где? — посмотрел Пущин. — Не знаю… Это ты у нас, друг, вращаешься в высшем обществе.
— Надо узнать, непременно узнать, — забормотал тот. — Ты в кресла? Я тоже… на левый фланг. Еще увидимся…
Никита Всеволожский и вообще вся золотая молодежь того времени абонировала кресла слева, за что и получила прозвище «левого фланга». Место Пушкина было среди них. Часто тут же появлялся, как появился и сегодня, раз выступала его любимая ученица, кривой, обезображенный оспой поэт Гнедич, прозванный «ходульником» за походку и ходульность речей и жестов.
Молодежь лорниловала ложи, и через минуту Пушкин уже знал, что поразившая его в одной из лож красавица — это знаменитая Princesse Nocturn (княгиня Полуночная), княгиня Голицына, урожденная Измайлова.
Глава шестая,
в которой князь Вяземский беседует в Гомбурге на Киселевской даче с Иваном Петровичем. — Рябчики, паюсная икра и запотевший графинчик. — Рассказ о княгине Голицыной, урожденной Измайловой. — Осень 1875 года.
— Зайдемте ко мне, милый друг, — предложил князь Вяземский Ивану Петровичу. Дело происходило в тихом Гомбурге, осенью, близ дачи Киселева, в 1875, кажется, году. — Мне мои внуки и правнуки шереметевского колена прислали рябчиков и паюсной икры. Жить без рябчиков не могу, а здесь их нет, не знаю уж почему, но нет. Я более порадовался бы рябчикам в их натуральном виде, а не в маринованном, но в натуральном они не доходят. А эти, конечно, слишком отдают восточным вопросом и заготовлены консервами, в чаянии будущих походов и побед, — не удержался он, чтобы, как всегда, не пройтись по поводу восточной политики России. Вообще князь держался молодцом, совсем не то было в Бонне еще этой весной, где князь Вяземский содержался в дорогой частной клинике нервных болезней. Показав на сапоги, подвигав носками, Вяземский добавил: — Уже послал им стишки:
На даче, поприветствовав княгиню Веру Федоровну, которая в кругу дам вела свой светский тонкий, как кружево в ее руках, разговор, поигрывая вечной тросточкой в руках, они, против обыкновения, не остались внизу, а поднялись к князю в кабинет.
— Я не хотел при дамах рассказывать о княгине Голицыной. Многие, а вы заметили, что в гостиной у Веры Федоровны много товарок почти ее возраста, знавали ее уже безобразной старухой, считали за сумасшедшую. У всех на устах еще лет тридцать назад была история ее безуспешной борьбы с картофелем. Да-да, с картошкой, которую весь наш народ трескает с большим удовольствием и жить без нее не может. Она считала, что насаждение картофеля в России отразится на здоровье и, главное, на нравственном здоровье русской нации. Она боролась, писала письма в правительство, затерроризировала министра государственных имуществ Киселева, на даче которого мы, кстати, живем, все безуспешно, она умерла, проиграв, — картошка растет по всей России. — Князь, улыбаясь, расположился в креслах. — Но это в сторону, дорогой Иван Петрович, какова она была в молодости, пусть не в первой, а тогда, когда ее знавал Пушкин? Ведь вас это интересует? И был ли роман?
— Разумеется, ваша светлость, для историка нет запретных тем.
— Но они есть для приличного человека, — усмехнулся князь Вяземский. — Ну так слушайте и стенографируйте в свой блокнот. О! Княгиня Голицына была в свое время замечательная и своеобразная личность в петербургском обществе. Она была очень красива, и в красоте ее выражалась своя особенность. Она долго пользовалась этим преимуществом. Не знаю, какова была она в первой своей молодости; но и вторая, и третья молодость ее пленяли какой-то свежестью и целомудрием девственности. Черные выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извивистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная; придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкое и благозвучное — и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее. Вообще красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней ничто не обнаруживало обдуманной озабоченности, житейской женской изворотливости и суетливости. Напротив, в ней было что-то ясное, спокойное, скорее ленивое, бесстрастное. По обеспеченному состоянию своему, по обоюдно согласному разрыву брачных отношений она была совершенно независима. Вследствие того она устроила жизнь свою, не очень справляясь с уставом светского благочиния, которому подчинил себе несколько чопорный и боязливый Петербург. Но эта независимость, это светское отщепенство держались в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия не отемняли чистой и светлой свободы ее.
— Она ведь разъехалась с мужем?
— Он был недалек, некрасив, хотя и несметно богат. Она дочь действительного тайного советника Ивана Михайловича Измайлова от брака с княжной Александрой Борисовной Юсуповой. Рано осиротев, воспитывалась в доме дяди Михаила Измайлова, сенатора и московского главнокомандующего. Ее выдал замуж за нелюбимого Павел, раз — захотел и выдал. В день смерти Павла она покинула мужа, тоже — раз и навсегда…
— Так был ли роман с Пушкиным? — с нетерпением спросил Иван Петрович.
— Вы, как всегда, спешите.
Тут принесли бутерброды с паюсной икрой и графин с водкой. Лакей налил рюмки.
Перекусим? — предложил князь. — А потом продолжим.
Выпили, крякнули по русскому обычаю (хотя водка была хорошая, пилась легко), закусили икоркой.
— Я не был в то время в Петербурге, а потом на мои нескромные вопросы Пушкин всегда отмалчивался. Думаю, что Пушкин в медовые месяцы своего вступления в свет был маленько приворожен ею. Это все видели: Тургенев, Карамзин писали мне об этом в Варшаву. Могу еще добавить, что такая личность, как княгиня не могла проходить бесследно и не пробуждать нежных сочувствий в том или ином сердце. Она на своем веку внушила несколько глубоких и продолжительных привязанностей, почти поклонений. До какой степени сердце ее, в чистоте своей, отвечало на эти жертвоприношения, и отвечало ли оно, или только благосклонно слушало, все это остается тайной… Но повторим еще раз, доброе имя ее, и при той довольно строгой общественной цензуре, оставалось безупречно-неприкосновенным.