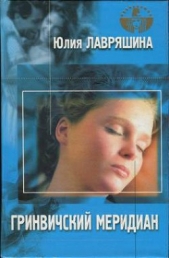Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий Олеша

Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий Олеша читать книгу онлайн
Написанная со страстью и горечью, пером ярким и острым, книга "Юрий Олеша" показывает драму талантливого советского писателя, сломленного в результате мелких и крупных компромиссов с властью. Но проблема поставлена автором шире - о взаимоотношениях интеллигенции и тоталитарного государства, интеллигенции и революции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Были папки, полные фрагментов и кусков, их можно было перекладывать, закручивать в неожиданные композиции, нужно только, чтобы это загустело, остановилось, приняло форму. Ничего не выходило. Опускались руки, в рот не лез кусок. Сыра не было.
Прокисшее молоко предательства и измены поблескивало, поплескивало, не густело. Унылыми плевками оно шлепалось на личность писателя, разрушая концепцию и надежду.
А крутил он трудолюбиво и долго. Ворочал тяжелые папки, переделывал фрагменты. У него были навыки, отличная техника, технология, мастерство, трудолюбие, усидчивость, умение владеть собой, привычка напряженно работать.
Все было; не было лишь одного: значительной личности. А без этого у художника самовыражения нет значительного искусства. Только из тщеславия, от ненасытной жажды успеха и зависти хорошие книги написать нельзя.
Многим его одарила природа. Не дала лишь бесстрашия. Бесстрашия написать, что лицемерие, трусость, уступки, попытки обмануть себя и других не принесли выгоды, что ничего из всего этого громоздкого дела не вышло, что произошло самое страшное, что может произойти с талантливым человеком, непоправимое, необратимое: он уже не только не мог издать то, что хотел, но он не мог ничего написать, что нельзя было бы издать.
Все было кончено.
Не было лишь сил признаться в том, что все кончено.
Он мог говорить все что угодно. И он говорил. Он говорил и писал то же, что говорили и писали другие. Не лучше и не хуже других. И все, что он делал, было не лучше и не хуже того, что делали другие незначительные люди. И другие люди были виноваты не больше и не меньше, чем Олеша. И оттого, что их было много, они не были виноваты меньше. И они говорили подлый и злобный вздор, потому что не понимали, что говорят, потому что бессмысленно верили в то, что их заставляют говорить, потому что боялись молчать, потому что им было выгодно это говорить.
Юрий Олеша был незначительным человеком, таким, как большинство людей, он был не хуже и не лучше их, и он повторял вместе с ними подлый и злобный вздор и потому, что не понимал, потому что верил, и потому что заставляли, и потому что боялся молчать, и потому что было выгодно говорить.
Он говорил:
"Те, кого сейчас судят, были прямой агентурой фашизма. Что можно сказать еще? Какая вина может быть еще более страшной? Эти люди воспитывали молодцов с револьверами. Им нужны были люди-маузеры.
В кого они должны были стрелять? В руководителей партии и правительства. Они покушались на Сталина. На великого человека, силы которого, гений, светлый дух устремлены на одну заботу - заботу о народе...
Мы, художники, должны особенно заклеймить эту сволочь. Мы - связанные духом с великими художниками прошлого. Мы - наследники благородных, влюбленных в народ людей...
Люди, которых сейчас судят, вызывают омерзение. Особенно, когда думаешь о прекрасном народе Испании, который борется с фашизмом, об интернациональных бригадах. Особенно, когда думаешь о том, как ясен сейчас стал мир, когда говоришь себе: я принадлежу к прогрессивному человечеству.
Особенно, когда вспоминаешь волнение, которое испытывал перед радиорупором, слушая слова великого, спокойного, исполненного чувства правоты вождя...
Никто и ничто не помешает народу жить, побеждать, добиваться счастья! Все враги его будут уничтожены!"1
1 Ю. Олеша. Фашисты перед судом народа. - "Литературная газета", 1037, 26 января, № 5.
Он все мог сказать. Только одного он не мог сказать никогда: что он пуст, нем, мертв.
Он поворачивался при большом стечении народа во все стороны, и солнце ослепительно переливалось на ярких перьях его метафор.
Когда человеку не хочется уходить (из жизни), он говорит, говорит, говорит без умолку, бегая по темам, предметам, людям, случаям, только чтобы еще немножко задержаться, подождать, как-нибудь отсрочить, еще несколько минут. "Это были очень вкусные штучки, вроде, я сказал бы, огурчиков из теста. Именно так..."1, "...как полноценны советские дети..."2, какая замечательная утка, она "вынырнула, отшвырнув движением головы такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них метафору". Но не такой человек Олеша, чтобы не подыскать для горсти капель или даже для целой утки метафору. И, конечно, сразу подыскивает. Пожалуйста: "Постойте-ка, постойте-ка, она, вынырнув, делает такие движения головой, чтобы стряхнуть воду, что кажется, утирается после купания всем небом!"3
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 96.
2 Ю. Олеша. Музыкальное утро. - "Огонек", 1947, № 21, с. 27.
3 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 235.
Пожалуйста! (раскланивается). А вы, наверное, сомневались, выкручусь я из этого положения или нет. Не беспокойтесь, и не из таких выкручивались.
Жить было невыносимо трудно. Он и знать этого не хотел. Он думал, что все оттого, что нет денег, не дали орден, Катаев, всякая чепуха. Он думал, что там скажут, как следует к нему, автору самых лучших метафор Российской Федерации, относиться. Может быть, просто нужно покрепче крутить лопатку?
Людовик XIV умер через тридцать семь лет после триумфального Нимвегенского мира. Тридцать семь лет великий завоеватель, человек, привыкший к неутихающему успеху, прозябал в Версале с осыпающейся штукатуркой.
На голом острове, облитом солнцем, как горячим, жирным бульоном, шесть лет томился Наполеон. (Он плохо обращался с писателями.)
Шодерло де Лакло умер через двадцать один год после того, как написал прославившие его навсегда "Опасные связи". У него было много других дел (интриги герцога Орлеанского, артиллерия Рейнской армии), но двадцать один год он прожил, боясь, что главное дело уже сделано.
Пятнадцать лет прожила мадам де Лафайет после "Принцессы Клевской".
На тридцать два года пережил свой знаменитый роман аббат Прево. Он написал пятьдесят пять томов. Некоторые тома имели успех. Но "Манон Леско" была написана за тридцать два года до смерти, и слава романа загнала все остальные книги писателя в угол, куда ходят только специалисты по французской литературе первой половины XVIII века.
Двадцать шесть лет прожил Юрий Олеша после своей последней настоящей победы, после своего оглушительного, как удар по голове, триумфа "Строгого юноши".
Это можно сравнить только с положением французского короля.
Их сближало многое. Один был королем, с ног до головы заляпанным прециозными стишками (в годы Расина!), другой был королем метафор. Обоих сближала осыпавшаяся штукатурка.
Жить было трудно, еще труднее было в этом признаться и уж совсем невозможно было признаться (хотя бы самому себе), почему так трудно. Но он знал, что зашел слишком далеко, что слишком много он уступил, что его слабая, жалкая, легко соглашающаяся воля без сопротивления сдалась страху, тщеславию, уговорам, ничтожному успеху. После "Строгого юноши" вернуться к "Зависти" можно было, лиiь перечеркнув все написанное за двадцать пять лет. Жизнь проходила, спотыкаясь, кашляя, ворча, вдруг начинала топать ногами, орать, швырять книги, бить посуду. Художник водил глазами по своей жизни, и красные от бессонницы глаза видели на ней не только благородные шрамы, полученные в справедливых войнах за освобождение русской литературы, но и пятна предательства.
Несмотря на это, он считал, что жить нужно. Нужно было вставать, чистить зубы, беседовать, писать, здороваться, ездить в трамвае.
Петь по утрам в клозете он не мог. Хотя именно в эти годы такая потребность у многих назрела окончательно.
Он вставал, здоровался, писал.
Писал. Почти каждый день строчку.
Эти строчки были полны надежды, потому что снова появилась концепция. Концепция была такая: как бы написать так хорошо, чтобы тебя любил народ и высоко ценили члены редколлегий толстых журналов и члены редсоветов крупных издательств.
Личность автора не соединяла разрозненные куски и фрагменты. Личности не было.