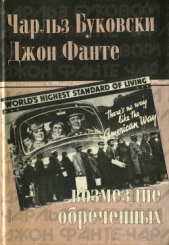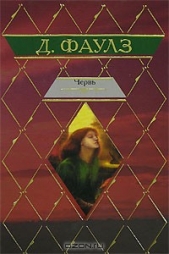Дневники Фаулз
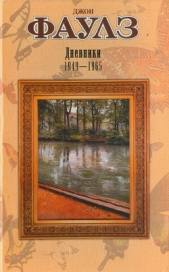
Дневники Фаулз читать книгу онлайн
История жизненного и творческого пути Джона Фаулза, рассказанная им самим.
Странствия по Европе и страстная, трудная любовь к замужней женщине…
Ранние стихи, пьесы и рассказы…
Возвращение в Англию — и начало становления Фаулза как писателя…
Вот лишь немногое, о чем повествует первый том «Дневников» Джона Фаулза, книги, которую по достоинству оценили и самые авторитетные критики, и читатели.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Андрусто, ее подруга, в каком-то смысле жена. Смуглая приятная гречанка. Лучше смотрится, более своевольна. Нетороплива, с низким голосом, чуть-чуть мечтательна. Наделена вполне современным даром все происходящее принимать как норму. Старательна, моральна. И, похоже, счастлива; думаю, ей суждено самое благополучное во всех бытовых проявлениях существование.
Лавик. Норвежка. Высокая худая девочка явно нордического типа, с ясными темными глазами и острыми чертами лица, придающими ей холодное, строгое, отсутствующее выражение. Между тем она смеется, прекрасно читает, выглядит вполне по-английски — совсем как воспитанная девочка откуда-то с крайнего севера страны. Одевается не бог весть как, волосы стянуты в тугой узел на затылке. Воплощает в себе извечный ибсеновский парадокс — сочетание naïveté и глубокой, непостижимой пустоты внутри. Понимает то, что ей говорят, на самом поверхностном уровне, и в то же время поверхностной ее никак не назовешь. Странные они, эти норвежцы, — совсем как высокие простенькие цветы среди щебечущих пташек. Чуть ли не какие-то диковинные особи, для которых не нашлось имен у ботаников.
Рапазоглу. Неприятная изворотливая ленивая девчонка, будто упрямая сухопарая серая кобылка. Вечно лжет, прикидывается, бормочет под нос шуточки. Неглупа. Типично адлеровская индивидуальность: вся — бунт, вся — напряжение, вся — эмоции. Вызывает во мне наибольшее неприятие. Мы воюем, стоим по разную сторону баррикад. Верблюд, жираф.
Зейдор. Очаровательная круглолицая греческая душка, безостановочно журчащая и игривая, как воробушек в летнюю пору. Органически неспособна усидеть на месте, сосредоточиться на чем бы то ни было. Смеется, без конца смеется. Отлынивает от работы. Чистая, оливкового оттенка кожа и густые черные брови, волосы собраны в пучок. Ребенок, но поистине солнечный, как аромат оливкового масла, постоявшего на солнце. Не могу удержаться от улыбки, когда она смеется — а она делает это всякий раз, как я пеняю ей на то, что она сделала или чего не сделала. Подвержена приступам детской рассеянности. По-своему — отнюдь не в сексуальном смысле — она мне так же симпатична, как антипатична Рапаз.
1 февраля
Киринкида. Киприотка, невысокая с тонкими анатолийскими чертами лица. Ее родители — борцы за свободу Кипра. Прирожденная шепотунья, насмешница, нарушительница спокойствия и в то же время неглупая — редкое сочетание. Когда находишься с ней рядом, неизменно серьезна, нервна, быстро реагирует. Но стоит куда-нибудь отвернуться, взрывается каскадом неудержимого веселья. Маленькое подвижное неугомонное создание.
Куек. Чешка; такую, кажется, ничем не проймешь. Всегда выглядит грубой, надувшейся или беспросветно тупой. Знает меньше других и не уверена в себе. Как-то по-свекольному застенчива, и ожесточенность не более чем симптом. Однако эта застенчивость сродни лебединому гневу: с упрямо насупленными бровями, глубоко коренящемуся в натуре и в определенном смысле неистребимому.
Стефанян. Полуармянка, полуперсиянка. Очень привлекательная, миниатюрная, физически прекрасно развитая девочка. Движется с грацией одалиски из гарема; под фасадом невинности и неуклонного послушания — бездна осознавшей себя чувственности. Самая вежливая из моих учениц. По-английски говорит плохо. Изредка смеется, и в низком, чувственном тембре ее голоса звучит неподдельный юмор. Возбуждает меня, как ни одна другая из девочек. Может быть, причиной тому — ее длинные волосы, волосы взрослой женщины. В ней напрочь отсутствует кокетство. И наконец, еще одно печальное обстоятельство: как я ни стараюсь, не могу отделаться от ее телесного запаха. Ощущаю его задолго до того, как вхожу в класс. Порою она старается заглушить его дешевыми духами, отчего становится только хуже. Иногда, впрочем, я его не чувствую. Как говорят представители других национальностей, сиамцы и персы не моются.
Аркадия. На удивление работоспособна. Смешлива, нетерпелива, недоверчива. На самом деле она мне не нравится. В ней нашла выражение одиссеевская сторона греческого характера: находчивость, умение не поддаваться грезам, острое как бритва чутье на все фальшивое. Стоит мне сделать ошибку, она первая ее замечает. Ее не интересует ничего, кроме чистых фактов. Говоря, что чего-то не понимает, она имеет в виду: то или иное не заслуживает ее понимания. Принципиально чужда всему поэтичному. Всецело ориентирована на прибыль. Маленькая крепенькая белолицая девочка, коренастая северянка. Родом из Македонии, она производит впечатление разве что не угрюмой. Но глаза у нее блестящие и на диво живые. Иногда, читая (а это ей удается легче, чем любой англичанке), она вдруг разражается беспричинным смехом и с удивлением констатирует:
— Не могу читать.
Следует всеобщий взрыв хохота, и все начинается заново.
С этими девочками я сталкиваюсь дважды в день. Сначала урок грамматики, затем чтение по программе: «Джозеф Эндрюс», «Дилемма доктора»… Но сначала всегда требуется завладеть их вниманием. Мне это неизменно удается, но за счет излишней строгости, холодности, дистанционности. В результате меня уважают, но недолюбливают. И тем не менее в психологическом плане я проникаю в их натуры так же глубоко, сколь далек от физического контакта с ученицами.
7 февраля
Сегодня умер отец Э.; на дворе мокрый снег. Вот уже третий день, как я живу один. Я никогда его не видел. Не ощущаю ни утраты, ни скорби — только сочувствие горю Э. «Все его внутренние органы разъедены раком, — сетует она. — И всегда так грустно смотрит — то на одного, то на другого». А когда его навещали в больнице, то и дело отключался: «Говорит, как хорошо просыпаться и видеть, что мы здесь». И еще: «Его лицо неподвижно и ничего не выражает, но глаза подчас проясняются и тогда в них появляется такое жалобное выражение». «Это такое душераздирающее и невыразимо печальное зрелище. Не отталкивающее, как мне думалось, а бесконечно печальное: человек, ждущий своей смерти».
И вот он умер.
9 февраля
Воскресенье. Еду в Бирмингем к Э., приехавшей туда во вторник. Утомительная поездка; в Лондоне тепло, солнечно, но чем севернее, тем холоднее: поля затоплены, идет редкий снег, и от этого на душе еще безысходнее. Луга — ужасающе грязно-зеленого, омерзительного цвета.
Нью-стрит; Э. выглядит усталой, но оживленной; и наша встреча — как свежевыпеченный хлеб к обеденному столу. Зашли в паб, заказали по паре кружек «Уортингтона». Она уже все организовала и в какой-то мере испытывает удовлетворение от того, что сумела совладать со своим горем. Идем к ней домой по унылым улицам, застроенным в девятнадцатом веке неказистыми кирпичными домишками, затем, преодолев угольные холмы, усеянные стеблями увядших рододендронов, выбираемся на сельскую дорогу. Впереди — скопище маленьких кирпичных ящичков вроде тех игрушечных, которые мы в войну расставляли на мешках с песком; только — настоящих. Крошечный домик-коробочка, с обеих сторон стиснутая соседними. Ни малейшего шанса избежать контакта с les autres [552].
Мы пробыли там, пока не подошло время обратного поезда; Э. и я наедине в передней гостиной, как парочка влюбленных. В маленькой кухне поели. Масса фотографий, в основном Э.: вся ее жизнь — череда без конца меняющихся причесок. Ее сестра [553] — воплощенный белый жираф, вытянувший длинную шею высоко в небо: ревностная методистка, правильная, взрослая — в двадцать раз взрослее меня, в каком бы возрасте я ни был. Более взрослой пятнадцатилетней девушки мне не доводилось видеть. Такая серьезная, рассудительная.
Мать Э. говорит об Эдгаре, усопшем, в настоящем времени. Смерть не оставляет и следа от временного измерения жизни. Напротив, она придает ему обратимость; это может служить утешением. Несколько фотографий отца Э. До того я его никогда не видел. С фотографий на меня смотрел сухопарый, желчный, обойденный удачей, терзаемый ненавистью человек очень высокого роста, прямой как столб, напоминающий профессионального игрока в крикет, проворно подающего шары. Этого человека нет, но он продолжает жить в собственных дочерях.