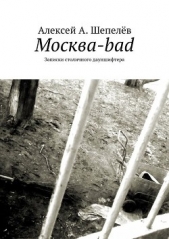Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая

Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая читать книгу онлайн
Филипп Филиппович Вигель (1786–1856) — происходил из обрусевших шведов и родился в семье генерала. Учился во французском пансионе в Москве. С 1800 года служил в разных ведомствах министерств иностранных дел, внутренних дел, финансов. Вице-губернатор Бессарабии (1824–26), градоначальник Керчи (1826–28), с 1829 года — директор Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий. В 1840 году вышел в отставку в чине тайного советника и жил попеременно в Москве и Петербурге.
Множество исторических лиц прошло перед Вигелем. Он помнил вступление на престол Павла, знал Николая Павловича ещё великим князем, видел семейство Е. Пугачева, соприкасался с масонами и мартинистами, посещал радения квакеров в Михайловском замке. В записках его проходят А. Кутайсов, князь А. Н. Голицын, поэт-министр Дмитриев, князь Багратион, И. Каподистрия, поколение Воронцовых, Раевских, Кочубеев. В Пензе, где в 1801–1809 гг. губернаторствовал его отец, он застал в качестве пензенского губернатора М. Сперанского, «как Наполеона на Эльбе», уже свергнутого и сдавшегося; при нём доживал свой век «на покое» Румянцев-Задунайский. Назначение Кутузова, все перипетии войны и мира, все слухи и сплетни об интригах и войне, немилость и ссылка Сперанского, первые смутные известия о смерти Александра, заговор декабристов — все это описано Вигелем в «Записках». Заканчиваются они кануном польского мятежа. Старосветский быт, дворянское чванство, старинное передвижение по убогим дорогам с приключениями и знакомствами в пути, служебные интриги — все это колоритно передано Вигелем в спокойной, неторопливой манере.
Издание 1891 года, текст приведён к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Родною племянницей этой княгини Вяземской была Александра Петровна Хвостова, о которой говорил я в конце второй части сих Записок. Несмотря на свой патриотизм и легитимизм, в угождение тетки, должна была она принимать Савари и его свиту; впрочем, с живостью её ума и характера, и ей самой любопытно и приятно было их видеть у себя. Тут имел я случай их встречать, и могу сказать несколько слов об них. Умнее всех был конечно Ле Лорнь (Le Lorgne), который в виде путешественника бывал уже в России, живал в Москве и выучился немного по-русски. Он был малый лет тридцати, ловкий, смелый, даже иногда наглый, и вместе с тем вкрадчивый; такие люди везде или вламываются, или пролезают. Заметно однако же было, что ласковый прием, сделанный ему до того в России, сильно на него подействовал, и что он искренно любил ее, а со всем тем охотно пожертвовал бы ею кумиру Франции: он один, кажется, у Савари занимался письменною частью.
Благороднее всех именем и осанкой был Монтескиу-Фезенсак, ведущий род свой от Лупа, герцога Гасконского, следственно от Карловингов. Примесью таких людей Наполеон любил скрашивать свои полки и миссии.
Всех красивее собою был молоденький Талует. Он вместе с другим, Фодоасом, принадлежал к новой республиканско-имперской аристократии, то есть они оба были сыновья во время революции чрезмерно обогатившихся плебеев. Оба сии жокриса [108], неведением светского обращения, разговорами и манерами смешили Петербургские гостиные. Один из них, Фодоас, любезничая раз с какою-то дамой, играл лежащим на её столике аметистовым сердцем, брал его в рот и нечаянно проглотил его. На другой день, изверженное и вымытое сердце сие, при учтивой записке, было возвращено той, которой оно принадлежало.
К сим двум примыкал еще третий молодой мальчик, Антоан, сын богатого марсельского негоцианта и, не менее того, по матери родной племянник жен Иосифа Бонапарте и Бернадота, то есть будущих королей Гишпанского и Шведского. В это время Иосиф уже был Неаполитанским королем. Слух прошел, будто Мария-Каролина, настоящая королева, находившаяся тогда в Сицилии, не только опасно занемогла, но и скончалась. О том неосторожно сказали при Антоане, который, полагая, что речь идет о его тетке, счел долгом притвориться падающим в обморок. Всё это чрезвычайно забавляло знатных, которые насмешками над цветом юности, неудачно присланным Наполеоном, думали мстить ему за его славу.
Как странно было видеть сих образчиков ново-французского двора встречающихся у Хвостовой с Лагардами, Дамасами и другими молодыми роялистами древних фамилий, офицерами в русской гвардии! Последние даже в общем разговоре старались, чтоб одним словом не задеть кого-нибудь из этой ротюры; один только дерзкий Растиньяк подступил раз к Монтескиу и громко спросил его: при ком он камергером, при Бонапарте или при жене его? Тот скромно отвечал: «при императрице».
Попытку Хвостовой соединить у себя тех и других французов одобрить нельзя. Сама она часто не могла утерпеть, чтобы не оказать предпочтения прежним своим знакомым и не похвастать иногда славой своей России, когда наполеонисты слишком завирались о его бессмертии. С другой стороны роялисты и многие русские с смертельною досадой должны были беседовать с теми, коих почитали сволочью и коих по неволе встречали только среди толпы в больших собраниях. Едва прошла осень и наступила зима, как те и другие ее покинули, и одни только искренние её друзья остались постоянными и верными её посетителями.
Кажется, Наполеону хотелось, оказав России первую учтивость, показать с тем вместе и преимущество свое над нею. Для того прислал он Савари с одними комплиментами, без всякого уполномочия, и ожидал прежде назначения к нам чрезвычайного посла, чтобы кто-нибудь от нас в сем звании к нему был отправлен. Выбор пал на графа Петра Александровича Толстого, прежде бывшего Петербургского военного губернатора, но оставившего сию должность, чтобы подвизаться на войне. Его любили и уважали; но, согласившись ехать послом в Париж, он сделался виновным в мнении публики. Плохая эпиграмма в дурных французских стихах, ходившая по городу, была его выражением. Вот она:
Сущая несправедливость! Граф Толстой был человек усердный, верный, на которого совершенно положиться было можно: русский в душе и русский по уму, то есть, как говорится, изпросту лукав. Такие люди, с притворною рассеянностью, как бы ничего не помня, ничего не замечая, за всем следят глазом зорким и наблюдательным и ни на минуту не теряют из вида польз и чести своего отечества. Кажется, у нас в России исстари велось, чтобы мужи, предназначающие себя на великие подвиги, более или менее на себя накидывали какое-то юродство. Стоит только вспомнить Суворова, который в сем роде был не первый и в наше время не один.
Тут есть что-то похожее и на Брута, и на Сикста Пятого.
По прибытии в Париж, граф Толстой нашел приготовленное уже для него жилище. Следуя системе прельщений с Россией, Наполеон купил Отель-Телюсон, довольно большой и красивый дом, в лучшей части города, с прекрасным садом его от улицы отделяющим, и отдал его русскому посольству. Мы не могли остаться в долгу и хотели заплатить с лихвою, и для того только что отделанный великолепный дом князя Волконского, на Дворцовой набережной, за дорогую цену куплен в казну для ожидаемого Коленкура.
Приезд его в январе месяце был сигналом отъезда для Савари с компанией. Почти все полагали, что нестерпимая спесь Коленкура была следствием данных ему наставлений. Я совсем другого мнения: этот человек был просто дерзкий холоп, который, гордясь успехами, могуществом своего господина, как все низкие души забывался в счастье. Может быть, по примеру Савари, приготовленный к холодному приему от общества, он с первого шага хотел предупредить его своею надменностью. Доказательством, что раздражение против себя русских не могло входить в намерения Наполеона, служит то, что предтеча Коленкура, Савари, и преемник его, Лористон, всегда оказывали, первый величайшую терпеливость, последний — умеренность и скромность в сношениях с двором и вельможами, даже тогда, как всё клонилось к совершенному разрыву с Россией.
Целых пять лет с сентября 1802 года, министерство, прозванное Английским, управляло государственными делами. Кажется, в самодержавных правлениях министры, которые просто орудия воли государевой, должны только следовать, хотя бы и не одобряли её, новой политической системе, им принятой. Не так думали наши Фоксы и Питты; жаль им было расставаться с местами и властью, они их как будто против воли сохраняли; но сам Император подал им средства с благовидностью освободиться от тяжести дел. Не вдруг, как в Англии, а в продолжение последних четырех месяцев 1807 года министерство изменилось и возобновилось почти в целом составе своем.
Началось с министра финансов, почтенного графа Васильева. Он бы не удалился, и его бы не отпустили: он был еще не слишком стар, но изнуренный долголетними трудами и опытный в делах, он может быть с трепетом смотрел на приближающееся несогласие с Великобританией, царицей торговли, и чувствовал, что затруднения, в которые оно его поставит, будут превыше сил его. Счастье сопутствовало ему всегда в жизни и не покинуло его при конце её: ибо что может быть счастливее кань вовремя умереть? Он скончался в конце августа, а в половине сентября объявлена война Англии. Бремя, им носимое, само собою легло на давно уже подставившего под него рамена свои, племянника его, Федора Александровича Голубцова, и через два года потом его раздавило.
За год до того, князь Чарторыйский, уступая силе общего мнения, должен был портфель иностранных дел передать некоему барону Будбергу; не покидая однако же Государя, он тайно оставался главным советником его в делах дипломатических. Этот Будберг был, кажется, лицо совсем без физиономии. При воспитании императора Александра, находился он в числе наставников, и об нём ничего не говорили. Потом еще при Екатерине был он назначен посланником в Стокгольм и там ничего не умел сделать, даже сосватать великую княжну Александру Павловну за Шведского короля; его однако же не отозвали. Без особых милостей и без гонений от Павла, оставался он при нём на прежнем месте почти к забвении. В 1802 году попытались было сделать его Петербургским военным губернатором; месяца два или три место сие оставалось как будто вакантным, об нём и помину не было, и его опять назад отправили в Стокгольм. Как подставку, как подтычку вызвали его оттуда в 1806 году, чтобы дать ему название министра иностранных дел. С сим званием случился он в Тильзите при переговорах, и неумышленно, безвинно подписал мирный трактат; и за то никто не думал на него сердиться и поносить его, а вся досада обратилась на бывшего тут, также случайно, русского князя. Трудно определительно сказать что-нибудь на счет характера такого человека, который сквозь столь важные места и события прошел невидимкой; судя по догадкам можно себе вообразить его немцем, довольно образованным для того времени, где нужно искательным, терпеливым и молчаливым, и следственно по наружности глубоко мысленным. Познав наконец весь нуллитет его, Государь, видно без обиняков сказал ему: «Ступай, брат, на покой!» [109]