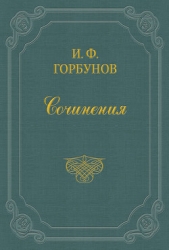Моя двойная жизнь
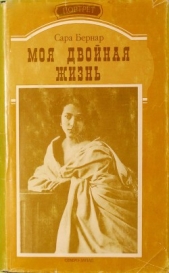
Моя двойная жизнь читать книгу онлайн
Она стала легендой еще при жизни — выдающаяся французская актриса, писательница, художница. Мемуары раскрывают перед читателями мир чувств этой великой женщины, но не обнажают ее душу — в своих воспоминаниях она остается актрисой. Она хотела, чтобы ее знали такой, и ей невозможно не поверить, настолько просто и естественно рассказывает она о своем детстве, о людях, с которыми сводила ее судьба, о театральных впечатлениях… Но по-прежнему, как в любых мемуарах, неуловимой остается грань между реальностью и субъективным ощущением действительных событий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тогда мать Товии вышла вперед и, обращаясь к архангелу, сказала:
— Благородный иноземец, оставайся в нашем доме. Отныне ты будешь нашим гостем, нашим сыном, нашим братом!
Тут я в свою очередь сделала шаг вперед и произнесла тираду по меньшей мере строк в тридцать, из которой явствовало, что я посланец Господа, архангел Рафаил. И, с живостью схватив заранее припрятанную бледно-голубую ткань, предназначенную для заключительного эффекта, закуталась в ее пышные складки, что должно было изображать мое вознесение на небеса. Вслед за этим апофеозом маленький занавес из зеленой саржи закрылся.
И вот, наконец, торжественный день наступил. Снедаемая лихорадочным ожиданием, я не спала три ночи.
Утренний колокол, служивший сигналом к пробуждению и прозвучавший на этот раз раньше обычного, застал меня уже на ногах, я пыталась укротить свои волосы; намочив их хорошенько, чтобы сделать послушными.
Монсеньор должен был приехать к одиннадцати часам утра.
Поэтому второй завтрак подали в десять. Затем нас выстроили в центральном дворе.
Мать святая Алексис, как старейшая, стояла впереди. Позади нее, в двух шагах, стояла мать святая Софья. На некотором расстоянии от обеих настоятельниц стоял священник. За ним — монахини, а сзади них — девушки, за девушками — девочки. Затем — послушницы и служанки.
Все мы были одеты в белое, и у каждого класса — свой флажок.
Звонили во все колокола. Большая карета въехала в первый двор. Ворота в центральный двор были открыты; монсеньор Сибур появился на каретной ступеньке, откинутой лакеем. Мать святая Алексис приблизилась к нему и, склонившись, поцеловала епископский перстень. Мать-настоятельница святая Софья, более молодая, целуя перстень, стала на колени.
Послышался условленный сигнал, и все мы опустились на колени в ожидании благословения монсеньора.
Когда мы подняли головы, ворота были закрыты и монсеньор уже исчез, его увела мать-настоятельница. Утомившись, мать святая Алексис удалилась в свою келью.
Снова заслышав сигнал, мы встали. Надо было идти в часовню на мессу, на этот раз очень короткую; затем нас отпустили на час.
Концерт начинался в половине второго. Свободное время ушло у нас на подготовку большого зала и самих себя, ведь мы должны были предстать перед монсеньором.
Я облачилась в длинное платье архангела: голубой пояс стягивал мне талию, а два бумажных крыла держались на маленьких голубых бретельках, скрещенных на груди. Голову украшал золотой шнурок, завязанный сзади.
Я снова и снова повторяла свои куски, ибо тогда мы еще не знали слова «роль».
Теперь театр вошел в нашу жизнь и стал привычным. Но в то время в монастыре мы говорили «кусок». И когда я в первый раз играла в Англии, то не без удивления услышала от одной юной англичанки: «О! У вас такой великолепный кусок в „Эрнани"…»
Зал украсили на славу. Нет, правда, там было очень мило! Всюду гирлянды из листьев с вплетенными в них бумажными цветами. И потом маленькие люстрочки, подвешенные на золотых проволочках. Большой ковер красного бархата расстилался у кресла монсеньора. И еще лежали две подушечки красного бархата с золотой отделкой. Весь этот ужас казался мне тогда неслыханным великолепием!
Начался концерт. Все как будто бы шло хорошо.
Однако монсеньор не мог сдержать улыбки при виде Цезаря; и, когда тот притворился мертвым, он первым стал аплодировать. В общем, Цезарь, конечно, понравился больше всех.
Тем не менее нас пригласили подойти к монсеньору Сибуру. Ах, до чего же это был ласковый и обворожительный прелат! Каждой из нас он вручил освященную медаль.
Когда настал мой черед, он взял меня за руку со словами:
— Это вы некрещеная, дитя мое?
— Да, отец мой… Да, монсеньор, — тут же в смущении поправилась я.
— Мы собираемся крестить ее весной. Отец девочки приедет из очень далекой страны специально на эту церемонию, — сказала мать-настоятельница.
Затем они стали потихоньку о чем-то беседовать.
— Ну что ж, если смогу, то обязательно постараюсь тоже быть на этой церемонии, — уже громко сказал архиепископ. Преисполнясь гордости, я с трепетом поцеловала перстень старца; потом ушла и долго плакала в дортуаре. Там-то меня и нашли вконец измученную и спящую глубоким сном.
С этого дня я стала гораздо спокойнее, менее вспыльчивой, отличалась прилежанием. Во время приступов гнева меня сразу приводили в чувство, напомнив обещание, данное монсеньором Сибуром, приехать на мои крестины. Увы! Увы! Этой радости не суждено было сбыться.
Однажды январским утром, когда все мы собрались в часовне на утреннюю мессу, я с беспокойством, удивлением и тревогой увидела, что аббат Летюржи, вместо того чтобы начать службу, поднялся на кафедру. Он был очень бледен. Я невольно обернулась, ища глазами мать-настоятельницу. Она сидела на своей скамье. И тут дрожащим от волнения голосом священник начал рассказ об убийстве монсеньора Сибура.
Убит. От этого слова повеяло ужасом. Сотня приглушенных криков, слившихся воедино в одном рыдании, заглушила на мгновение голос священнослужителя. Убит… Это слово резануло меня больнее, чем других: разве не стала я любимицей добрейшего старца, пускай хоть на краткий миг?
Мне казалось, что убийца Верже поразил и меня тоже, посягнув на мою признательную любовь к прелату, на мою крохотную славу, которой он меня лишил. Я горько плакала. А тут еще орган, сопровождавший заупокойную молитву, усиливал мою печаль.
И с этой минуты я прониклась мистической, пламенной любовью к Всевышнему, которую поддерживали в моей душе религиозные обряды, само богослужение и ласковое, искреннее, хотя и ревностное подбадривание моих наставниц, очень любивших меня; я тоже их обожала и до сих пор вспоминаю о них с необычайной нежностью, дарующей моему сердцу радость и покой.
Приближался момент моего крещения. Я все больше начинала нервничать. Кризисы мои участились: я то заливалась слезами без видимой причины, а то вдруг впадала в отчаяние, меня охватывал необъяснимый ужас. Любая мелочь повергала меня в трепет.
И вот случилось так, что одна из моих подружек уронила куклу, которую я дала ей поиграть (ибо в куклы я играла чуть ли не до четырнадцати лет); я задрожала всем телом. Эту куклу я обожала, ее подарил мне отец.
— Ты разбила голову моей кукле, скверная девчонка! Ты сделала больно моему отцу!
Я перестала есть. А по ночам просыпалась вся в поту и, как безумная, рыдала:
— Папа умер!.. Папа умер!..
Через три дня приехала мама и, обняв меня, сказала:
— Девочка моя, я привезла печальную весть… папа умер!
— Я знаю, знаю…
При этом у меня было такое выражение, часто рассказывала мне мать, что она долгое время боялась за мой рассудок.
Я стала грустной и очень болезненной. Учить я ничего не хотела, меня интересовали только священные предания да катехизис.
Мама добилась, чтобы вместе со мной крестили двух моих сестер: Жанну, которой исполнилось тогда шесть лет, и Режину, которой не было еще и трех; несмотря на малый возраст, ее тоже взяли на воспитание в монастырь в надежде хоть немного отвлечь меня.
Меня поселили одну за неделю до крещения и еще на неделю после, перед первым причастием, которое должно было состояться через несколько дней.
Собрались все: мама, тетушки — Розина Беран и Анриетта Фор — моя крестная мать, дядя Фор, мой крестный отец Режи, господин Мейдье — крестный отец сестры Жанны, и генерал Полес — крестный отец Режины; а кроме того, крестные матери моих сестер, мои кузены и кузины… Все они вносили суматоху в монастырскую жизнь. Мама и обе тетушки были в трауре, но выглядели весьма элегантно. Тетя Розина украсила шляпку веточкой сирени, «чтобы оживить траур», — сказала она (странная фраза, которую я не раз потом слышала уже не от нее).
Никогда еще я не чувствовала себя такой далекой тем, кто приехал сюда ради меня.
Маму я обожала, но к умилению примешивалось горячее желание покинуть ее, никогда не видеться с ней больше, пожертвовать ею во имя Господа. Что же касается остальных, то я их попросту не замечала. Я была безмерно серьезной и немного колючей.