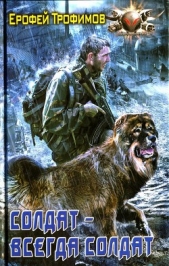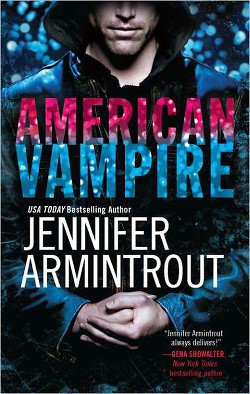Так затихает Везувий. Повесть о Кондратии Рылееве

Так затихает Везувий. Повесть о Кондратии Рылееве читать книгу онлайн
Книга посвящена одному из самых деятельных декабристов — Кондратию Рылееву. Недолгая жизнь этого пламенного патриота, революционера, поэта-гражданина вырисовывается на фоне России 20-х годов позапрошлого века. Рядом с Рылеевым в книге возникают образы Пестеля, Каховского, братьев Бестужевых и других деятелей первого в России тайного революционного общества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет, я должен признать, что эконом Бобров — великий человек. Пророк. Ясновидец. Некий «мошенник», как он называет наших кадет, бывший его питомец, влепил такую оплеуху Аракчееву, что вся столица только о том и говорит. Имя мальчика — Рылеев.
В журнале «Невский зритель» напечатана сатира «К временщику» с подзаголовком «Подражание Персиевой сатире „К Рубеллию“». Как видно, нехитрая маскировка заволокла пеленой очи цензоров, и они пропустила эту пороховую шутиху в печать. Но нет человека среди читающей публики, каковой не соотносил бы все поношения, содержащиеся в сатире, к Аракчееву. Все до чрезвычайности довольны. Все, без различия убеждений, — и либералы, и реакционеры. Сомнения в том, куда направлены стрелы сатиры, ни у кого не возникает. Античный декорум не может скрыть прямых намеков на аракчеевские военные поселения. «Налогом тягостным довел до нищеты, селения лишил их прежней красоты…»
И как восхитительно бесстыдно в наши дни, дни изящной поэзии Батюшкова, Пушкина, Дельвига, звучат заключительные строки сатиры:
Громоздкость, неуклюжесть самого стиха не только искупается гражданским гневом поэта и оправдывается нарочитым подражанием античным образцам, но, сдается мне, и прозвучала бы не столь грозно, буде сказана обычным разговорным нашим языком.
Хвалить за проницательность надо, однако, не только эконома Боброва. Перелистывая свои тетради, обнаружил, что и аз грешный заметил трепетную душу юного кадета еще в переписке его с отцом. Не сомневаюсь, что он еще не раз удивит и обрадует читателей.
6. В СТОЛИЦЕ
Свечи не хотелось зажигать, хотя в комнату крадучись наползал полумрак. Петербургские сумерки долгие. Он любил этот час, когда тают очертания предметов, контуры становятся зыбкими, дрожащими, вещи меняют форму и свое назначение, фарфоровые часы на низеньком книжном шкафу превращаются в белый капюшон какого-то католического монаха, а за складками раздернутой шторы, колеблемой ветром из щелей окна, чудится чье-то присутствие, надежда на встречу страшную или счастливую. Детские мечтания. Еще в корпусе он любил бродить в этот час вдоль белой, когда-то говорящей стены, после постылых уроков, с сладостным отчаянием обездоленного, воображая за ней кипучую и опасную, полную восторгов и угроз, жизнь на свободе.
Воображение… Теперь друзья посмеивались над ним, говорили, что он настолько простодушен, так лишен воображения, что каждый, кто честит правительство или произносит либеральные тирады, кажется ему рыцарем без страха и упрека. Не хватает воображения представить, что можно говорить одно, а поступать по-другому. Он соглашался, каялся и оставался прежним…
Стол завален бумагами. В глазах рябят закорючки, завитушки писарской скорописи. И нет желания вникать в эти прошения, жалобы, обвинения, иски. В ушах стучат батюшковские строки:
Слава! Грех жаловаться. Громокипящий кубок славы возник, прильнул к устам, да вот беда — по усам текло, а в рот не попало. Самоутешение, самовозвеличение. Но изменилось ли хоть на волос что-нибудь в устройстве государства Российского от того, что все узнали во «Временщике» Аракчеева? Всего-то и было, что хвалили, князь Вяземский прислал письмо. Сам Вяземский, тончайший ценитель поэзии, российский Шолье, как в шутку величает его Пушкин именем поэта-эпикурейца начала прошлого века. Гнедич руку жал, и рябое его лицо светилось искренней приязнью. Подивились молодые люди из архивного ведомства — как пропустили! Поахали дамы, посещающие литературные салоны, — какая смелость! Кто-то захотел быть представленным отважному автору, кто-то мечтал получить приглашение в его дом. Да может еще в Третьем отделении взяли на заметку. Эка слава! И как прав Батюшков — «я в праздности теряю время», хотя стол и завален бумагами. Это чувство неизрасходованности душевных сил, бесплодности существования временами преследует до тоски. Хотя можно ли назвать праздностью эти годы после женитьбы на Наташе. Годы, проведенные в деревне, то у себя в Батове, то у тестя в Подгорном. Тесть Тевяшов, дай бог ему здоровья, настоял, чтобы он вышел в отставку. Как знать, может, и не бескорыстно. Надеялся, что зять станет образцовым помещиком. Надежды эти потерпели полное крушение. Худшего выбора нельзя было сделать. Не рожден он быть приобретателем, накопителем, приумножать свое состояние, выжимать из крестьян последнюю копейку. На каждом шагу приходилось сталкиваться с бедностью, нехватками полуразоренных самодурством отца крепостных. Он с тоской сознавал свое неумение и бессилие что-нибудь изменить. В такие дни заботы и нежность Наташи, безоблачное радушие тестя только тяготили. Все чаще пребывал он в тоске и неудовлетворенности, и, когда появилась необходимость поехать в Петербург по тяжебным делам своим и Тевяшова, он словно ожил.
В Петербурге, всегда казавшемся сухим, холодным, немилым, на этот раз завихрило, понесло, потащило. Новые знакомства, литераторы, журналисты, издатели. Балагур, гаер Булгарин, пусть о нем плохо говорят — моветон, невежда. Но люди недоверчивы из трусости, должно быть? А Булгарин умен, как бес, и какое радушие! Обстоятельный Греч осторожен, но благожелателен. Аристократы от литературы — Вяземский, Дельвиг — держатся на дистанции, но как будто благосклонны, так же как и рябой Гнедич, стоящий во главе Вольного общества любителей российской словесности, а главное — тут, в Питере, обретен лучший друг, Александр Бестужев. Хоть он и прозаик, но романтик и больше поэт в душе, чем все они, вместе взятые.
Обидно было, что приходилось делить время на обиванье порогов в канцеляриях и передних чиновных вельможей, только и отвел душу, рассчитался с ними стихами:
Как всякое тяжебное дело, и его дела могли тянуться годами, и пребывать в ожидании в столице было несподручно. Но когда он вернулся в Батово, уездное дворянство выбрало его заседателем в уголовную палату Петербургского суда. Даром что плохой хозяин, оценили честность, и неподкупность.
Со всем рвением он принялся за дело, вернувшись в Петербург, и еще раз убедился, как и в деревне, что важно не дело делать, а преодолевать препятствия. Чиновничье своекорыстие, равнодушие и тупость заседателей, неспешность и неповоротливость всей судебной машины. Если когда-то он сетовал, что так мало знает Россию, что даже французский эмигрант на многое открывает ему глаза, то теперь погрузился в бездонную пучину беззаконий, злоупотребления властью. И вместе с тем суд был завален пустячными жалобами, грошовыми исками, сведениями семейных счетов. И сейчас перед ним лежало завещание, над которым хотелось и смеяться и рыдать от злости. Нелепость, ахинея! Однако родственники покойного уже год добивались решения суда.